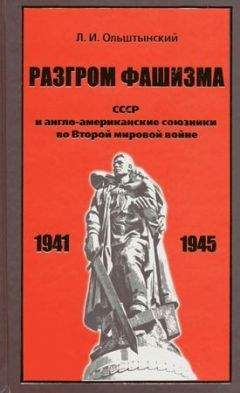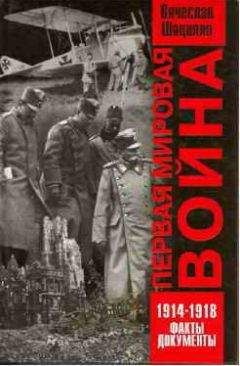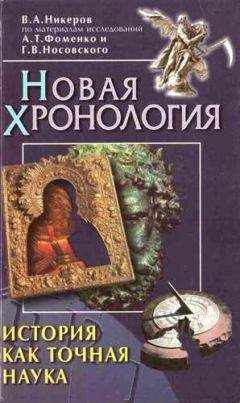Как истый Хлестаков, Протопопов вначале ужасно хорохорился. Когда Совет министров, не желая излишне обострять отношения с Думой, высказавшейся категорически против передачи продовольственного дела в Министерство внутренних дел, и уже получив достаточное представление о деловых возможностях его главы, также восемью голосами против шести высказались против передачи, Протопопов поспешил с жалобой к Распутину. Под диктовку последнего министр написал телеграмму на имя царя, которая начиналась словами: «Все вместе ласково беседуем». Дальше говорилось: «Дай скорее Калинину власть, ему мешают, он накормит народ, все будет хорошо...» 221 Калинин — полуконспиративная кличка, которую дал Распутин Протопопову и которой стали также широко пользоваться при телефонных разговорах и переписке царская чета и Вырубова.
Телеграмма была отправлена в ставку, царь утвердил мнение меньшинства Совета министров, но в последний момент Протопопов испугался и под всякими предлогами стал отказываться и
в конце концов отказался, несмотря на крайнее недовольство Распутина и царской четы. «Вспоминая теперь свое намерение взяться за продовольственное дело, я должен признаться,— писал он в своих показаниях,— что недостаточно обдумал это дело и ознакомился с ним» 222.
«Недостаточно обдумывал» Протопопов любое другое дело, которое так или иначе попадало в его поле зрения. Все, кто соприкасался с ним на деловой почве, в один голос констатировали полную неспособность Протопопова к какой-либо продуктивной и тем более систематической деятельности 2П. Одним из таких людей был известный нам Харламов, оставивший отличное описание и характеристику своего последнею шефа.
Назначение Протопопова, писал он, «произвело ошеломляющее впечатление». Все знали его как «очень милого, приятного человека, но никто не подозревал в нем государственных способностей». Харламов встречался с Протопоповым не только в служебном кабинете, но и на завтраках у знаменитого генерала Богдановича, хозяина одного из самых реакционных салонов, и всегда «отличительной чертой была чрезвычайная любезность... доходившая иногда до приторности». «...Очень суетлив как в движениях, так и в своих разговорах». Словоохотливость Протопопова была так велика, что «разговор с ним редко носил характер диалога». Подчас он высказывал неглупые мысли, «но в общем все, что он говорил, было весьма сумбурно и производило общее впечатление... какого-то недержания речи... Особенно охотно Протопопов говорил на политические темы, причем с необычайной легкостью разрешал самые сложные государственные вопросы».
Став министром, он обнаружил «совершенное неумение распоряжаться своим временем». Если, скажем, директор департамента вызывался им для доклада на 11 —12 часов, то попадал к нему не раньше 6—7, а иногда и в 9 часов вечера. Был очень доступен. Всякий чуть ли не с улицы мог получить аудиенцию и слушать его в течение нескольких часов. У него было огромное количество приятелей в самых различных кругах, со всеми был на дружеской ноге и большей частью на «ты».
Во время первой официальной встречи Харламова с Протопоповым, происходившей в служебном кабинете министра, последний встретил его как лучшего друга, расцеловал и начал говорить на самые разнообразные темы, да так, что слово вставить было, невозможно. Тут был и продовольственный вопрос, и критика министров, и нападки на членов Думы и Государственного совета. Своих противников он обвинял «в политическом легкомыслии и недостаточной государственной зрелости». Единственно, о чем не было разговора,— это о департаменте духовных дел инославных вероисповеданий, т. е. о том предмете, ради которого и был вызван Харламов как директор этого департамента. Единственное, что было сказано Протопоповым в этой связи,— это заявление, что ему стоило большого труда уговорить царя назначить Харламова на этот пост. «Не сомневаюсь», замечал по этому поводу Харламов,
что это был плод досужей фантазии министра, так как царь, вернее всего, и не слыхивал о его фамилии. «Впрочем, Алекс [андр] Дмитр [иевич], как я в этом потом неоднократно убеждался, частенько уклонялся от истины», сам веря в собственные небылицы. В целом же Протопопов производил впечатление человека с пошатнувшейся психикой. «Суетливости и нервной торопливости не было предела». Вскакивание с места, бегание, истерические выкрики — все это была настоящая пытка для собеседника. Но, заключал автор воспоминаний, на его взгляд, прогрессивным параличом Протопопов все-таки болен не был (о том, что он сифилитик, знали все 224).
Даже Александра Федоровна, которая была в восторге от Протопопова, выразила сочувствие мужу, когда он сообщил ей о первом докладе нового министра. «Как ты, верно, устал после двухчасового доклада (Протопопова.— А. А.),— писала она 29 сентября 1916 г.,— он сыплет словами как заведенная машина»225. У Покровского в связи с одним из выступлений Протопопова в Совете министров (о расстановке политических сил в стране) «возникло сомнение в состоянии его умственных способностей»226. Даже последний премьер, князь Н. Д. Голицын, старый человек и почти рамолик, пришел к заключению, что Протопопов «совершенно не в курсе дела» вверенного ему министерства, что он «попросту не знает дела» 227. Наконец, сам Протопопов вынужден был признать, что был «неопытный в громадном деле» и потому допускал ошибки и «бездействие власти», а министерство управлялось людьми, «стоящими во главе отдельных его частей» 228, т. е. фактически не управлялось.
И вот этот человек сделался главным объектом борьбы между Думой и «общественностью», с одной стороны, двором вместе с Распутиным — с другой. Даже для Совета министров Протопопов стал совершенно неприемлем. Последние два премьера, выражая мнение большинства Совета, обусловливали свое согласие занять этот пост увольнением Протопопова. Более того, от него отвернулся даже Совет объединенного дворянства. Симбирское дворянство решило исключить его (предводителя дворянства) из своих рядов 229. В ставке говорили: «У Протопопова... все есть: великолепное общественное положение, незапятнанная репутация (?), огромное богатство... недостает одного — виселицы, захотел ее добиться» 230 .
Большинство кабинета считало необходимым избавиться от Протопопова, кроме всего прочего, в силу его крайней одиозности в глазах Думы и «общественности». В этом отношении Протопопов превзошел всех, включая и Штюрмера. Он стал грандиозной красной тряпкой, «эмблемой», как выразился Голицын231.
Под общим нажимом в сложившейся после известных думских выступлений 1—3 ноября 1916 г. Милюкова, Шульгина и других обстановке даже царь понял: оставлять дальше Протопопо
ва на его посту нельзя. 10 ноября 1916 г., сообщив Александре Федоровне, что нужны перемены, «которые крайне необходимо теперь
провести», Николай II писал: «Мне жаль Прот[опопова] — хороший честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения. Я это с самого начала заметил. Говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной (!) болезни (когда он обращался к Бадмаеву). Рискованно оставлять в руках такого человека Мин [истерство] внутренних] дел в такие времена! » 232.
В ответ из Царского Села понеслись совершенно отчаянные вопли с требованием не трогать Протопопова: «Я тебя умоляю, не сменяй Протопопова теперь, он будет на месте... Только не Протоп [опова]... Не допусти этого. Он не сумасшедший... Успокой меня, обещай, прости». Одновременно полетела телеграмма: «Умоляю оставить Калинина. Солнышко просит об этом. Подожди до встречи, не решай ничего». Послушный супруг в тот же день телеграфировал: «Подожду с назначением до свидания с тобой» 233.
Александра Федоровна продолжала пребывать в готовности номер один. «Треп[ов] лжет, когда говорит, что Прот [опопов] ничего не понимает в делах своего министерства, он прекрасно все знает»,— писала она 12 ноября 234. Это последнее письмо перед очередным приездом царя в Царское Село, где он пробыл с 26 ноября по 4 декабря. Но за это время, писал Спиридович, «окончательно окреп Протопопов, окончательно провалился Трепов, влияние же Распутина достигло своего апогея» 235. Тем не менее после отъезда Николая II в ставку царица снова требует от своего супруга быть стойким и не поддаваться козням Родзянко и Трепо- ва в отношении Протопопова. «Но Калинина оставь, оставь его, дорогой мой!.. Не поддавайся» (6 декабря). «Почему он (Трепов.— А. А.) ладит и старается работать с ним (Родзянко.— А. А.), лгуном, а не с Протопоповым [который правдив?] »,— писала она неделю спустя 236.