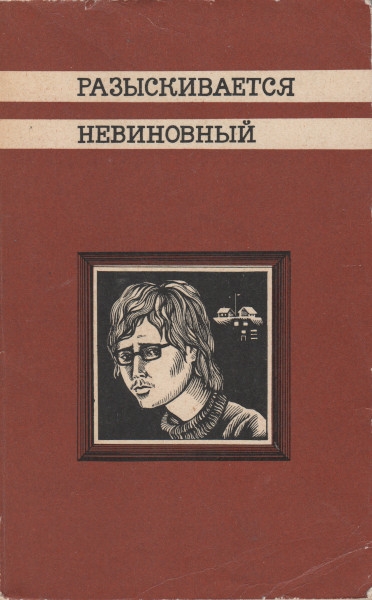от влаги деревянных ступенях проступали, вытягиваясь и ширясь, светлые прогалинки — крыльцо сохло на глазах. Ничего не ответив Сапару, я вздохнул и, увязая в горячем песке, побрел к утыканной приборами метеоплощадке.
Чтобы открыть калиточку, пришлось приложить усилие: и ветра вроде бы не было, а занесло здорово. Я достал из заднего кармана джинсов блокнот, карандаш и принялся за работу.
Странно, как отчетливо сохраняются в памяти все, до ничтожных мелочей, происшествия самых малопримечательных дней. Например сегодняшнего. Я запомнил и такую ерунду, как размочаленная ступенька, на которой оступился, — темно-серая, с желтыми вкрапинами охры. Моя резиновая вьетнамка выскользнула из-под потной ступни, и я больно стукнулся коленом о ступеньку лестницы, взбегавшей к психрометрической будочке. Судорожно ухватившись за лестницу, я скорее почувствовал, чем услышал, как хрустнул грифель. Придется возвращаться на станцию, чтобы очинить карандаш. Если бы у меня оставался только гигрометр, я просто запомнил бы его показания. Но я не проверил еще и половины приборов.
Чертыхаясь и проклиная ломкие карандаши и пересыхающие авторучки, я побрел к метеостанции. Едкие мысли о бессмысленности жизни в дурацких песках и ошибке, которую я сделал, забравшись в Каракумы, вместо того чтоб уехать на БАМ, опять зашевелились, будто змеи после спячки. Наступая на куцую свою тень, я шел к домикам и на ходу нарочно загребал песок. Пусть печет — чем хуже, тем лучше. Настроение было сначала просто плохим, через двадцать шагов оно стало намного хуже, а когда до станции осталось несколько метров, я уже наверняка знал, что стычки не избежать. С кем? Безразлично. С тем, кто будет сейчас на станции. Будто не сам я был виноват в том, что меня занесло на этот пуп Каракумов.
Дверь на радиостанцию была приоткрыта. Взойдя по ступенькам, я протянул руку, чтобы толкнуть дверь, и тут услышал приглушенное восклицание:
— Не говорите так... Это неправда!
Айна здесь?! Я не успел удивиться, как услышал:
— Послушай, я знаю, что говорю, помянешь мое слово. Не судьба тебе с ним, уезжай! А как отдаст тебя, поздно будет, девочка!
— Не отдаст, не отдаст он меня, пустите! — со всхлипом выкрикнула Айна.
Заскрипела дверь радиостанции, я услышал шлепанье босых ног по полу, и мимо меня, столбом застрявшего на крыльце, промчалась раскрасневшаяся Айна. На меня она не взглянула, будто я и в самом деле был столбом.
— Подожди, Айна! — крикнул я, но она уже скрылась за углом. Я вошел внутрь, сжимая кулаки. Злость закипела во мне. Неужели Володя ничего не видит? Или не хочет видеть?
Когда я вошел в комнату радиостанции, Вадим Петрович как ни в чем не бывало расправлял мятую сигарету. Он сидел на рабочем месте, возле аппаратуры, и выглядел спокойным. Но его утиный нос с ложбинкой на кончике подергивался — верный признак, что начальник рассержен. Тем лучше. По крайней мере, я его успокаивать не намерен.
Вадим Петрович прищурился насмешливо, наверняка, чтобы задеть меня. Морщинки стянулись к колючим глазкам, едва заметным из-под поросячьих ресниц, тускло блеснули золотые коронки передних зубов.
— И долго ты торчал под дверью? Прости... Я хотел сказать — стеснялся войти, д‑да, стеснялся...
Он хахакнул и опять занялся сигаретой.
— Я не торчал... — пробормотал я, хотя секундой раньше был уверен, что отвечу резкостью. — Карандаш сломался... Еще не все записал, дайте, если есть... Или нож...
— Нож?! — Старый продолжал паясничать. — Ни-ни! Ни в коем случае! Такому сердитому юноше, да еще в состоянии... как его... аффекта? И не проси. А карандаш... Вот, пожалуйста. Одного хватит?
Я взял карандаш.
— Это вы правильно... что не дали нож.
Угроза прозвучала до отвращения фальшиво. Почти жалобно.
Начальник трескуче рассмеялся. Он выжимал из себя смех, чтобы меня унизить, и все же я заметил, как моя жалкая угроза заставила его насторожиться.
— Э-эхх... — протянул он и, смяв сигарету, швырнул на пол. — Рыцарь печального образа... Иди, иди, скоро выходить на связь, иди.
— Я уйду, но сначала вы мне объясните... — начал было я, но Вадим Петрович не дал договорить:
— Потом, потом! — крикнул он и махнул рукой на дверь. Некогда, слышишь? Некогда сейчас. Иди!
Я сбежал с крыльца и крупными шагами двинулся к площадке, шепотом обзывая себя. Малодушный, никчемный человечишка, который опять спасовал. Сколько же может такое продолжаться, до каких пор? Айне и в голову не придет, что я мог бы выступить в роли ее защитника. У нее есть Володя, муж, Но сам-то, я сам? Я же знаю, что и Шамара избегает конфликтов с начальником, уходит от стычек, не замечая того, на что он просто не имеет права закрывать глаза. Неужели ждать от него разрешения на защиту женщины от преследований старого сластолюбца? Невыносимо...
Записывая показания приборов, я несколько отвлекся и поостыл. На меня помаленьку накатывало обычное мое состояние — такого сонного безразличия, неопределенности, размытости чувств и мыслей. Когда я возвращался, чтобы передать дежурному радисту метеоданные для зашифровки, злость дотлевала, но презирал я себя не меньше — за неспособность быть стойким в чем бы то ни было, даже в неприязни. «Не будь каракумской жары, — думал я с горечью, — я был бы другим».
Вадим Петрович был в наушниках, станцию он уже включил. Остро взглянул на меня, кивнул, взял листок с цифрами и отвернулся. Я молчал. Объясняться не хотелось, да и не время было — подходящий момент я, как всегда, упустил. Из-за робости? Из-за нерешительности? Когда же, наконец, проявится во мне то, что называют мужским характером?
Завернув за дом, я увидел, что сарай распахнут и что в глубине его блестит спина Володи, склонившегося над мотоциклом.
Точно помню — в тот день как раз исполнился месяц, как Сапар увез свою очередную жену. Я еще подумал, что в нашем мире без событий ее отъезд теперь станет одной из вех, по которым мы дни считаем. Будем теперь говорить: «А‑а... Это было еще до того, как Сапар спровадил жену». Или: «Примерно через месяц после отъезда казашки...». Точно так же, как до сих пор для нас были координатами невероятный для Каракумов ливень в июне, убитый мною однорогий джейран и приезд московских киношников. Теперь,