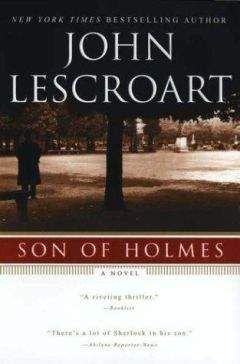в чайник две ложки чая) – тот еще завтрак ждет старого дурня! Но еще больше Алеку жалко Коркера из-за всего, что так и останется непредвиденным, неизвестным, невысказанным. Алек толком не знает, почему Коркер так поспешно бросил сестру, почему она умирает, почему Коркер сказал: «Ну и характер!», [73] почему он держит в ящике стола заряженный револьвер, почему он сказал, что Бэнди Брэнди будет у него за экономку, почему он ведет себя наверху как пьяный… Впрочем, Алек уверен, что ничего этого Коркер и сам не смог бы объяснить. Коркер, как кажется Алеку, несется вперед так, словно ему в спину задувает ураган. Этот рукотворный ураган ворвался в туннель и теперь гонит Коркера куда-то дальше, через катакомбы. Чайник закипает и начинает свистеть. Алек никогда не бывал в катакомбах, однако сейчас, наливая кипяток из чайника, чувствует, слышит, как внутри снуют кусочки накипи, наросшей внутри за многие годы (они ощутимо утяжеляют один бок чайника и позвякивают), и это наводит его на мысль о бесплотном, окаменелом минеральном подземном мире: метафора помогает ему представить, как страдает Коркер. Он переходит к буфету. На одной полке стоит несколько разрозненных чашек, блюдец и тарелок. На другой полке – пачка соли, немного чая, упаковка печенья и маленькая, почти пустая банка дрожжевой пасты «Мармайт». На самой нижней полке – простыни и наволочки, о которых упоминал Коркер. Алек оставляет чашки на полке с «Мармайтом» и наклоняется, чтобы рассмотреть простыни. Раз от Коркера ничего не добьешься, Алеку придется поискать самому. Простыни явно не новые. Возможно, Коркер стянул их из номера в «Вест-Виндс». Была ли у него там тоже двуспальная кровать? В глубине за простынями Алек находит две коробки. Первая – белая картонная коробка, на которой ничего не написано. Алек открывает ее. Внутри – бутылка размером примерно с бутылку джина. Непочатая. Этикетка на иностранном языке, но Алек видит слово «Kümmel» и вспоминает, что об этом пойле Коркер рассказывал в лекции о Вене. [74] Вторая коробка – золотая, с тисненой надписью черным наклонным шрифтом: «Allure». Алек осторожно вертит ее в руках, пробует открыть. Коробка открыта. Внутри – набор шоколадных конфет разной формы в обертках из разноцветной фольги. Несколько съедено, от них остались бумажные подложки. На внутренней стороне откидной крышки – картинка вроде несуразно большого сигаретного вкладыша. На картинке обнаженная женщина на софе. У нее темные волосы и большие глаза. Волос между ног нет, – должно быть, она их сбривает. Миниатюрная, не крупнее Джеки. Кожа очень белая – даже ступни белые. Похоже на фотографию, однако в цвете – вероятно, все-таки картина. Внизу надпись: «Маха обнаженная». Алек снова смотрит на конфеты и зачем-то начинает считать, сколько уже съедено. Семь. Он представляет, как Коркер уплетал их, лежа в постели. Затем представляет, как он смотрел на женщину, пока лопал конфеты.
На помощь! – думает Алек, захлопывая коробку с конфетами и убирая обе коробки на место, позади аккуратно сложенных, идеально гладких простыней. Он ставит две чашки на стол рядом с газовой плитой. Молоко всегда стоит в деревянном шкафчике под раковиной – охлаждается. На подоконнике над раковиной – фиалки. Через шкафчик, изгибаясь, проходит стальная сливная труба. Разница между молоком, налитым в бутылку, и грязной водой, протекающей через трубу, напоминает Алеку о таких несхожих историях его пениса и пениса Коркера. Он вздыхает и пинком закрывает дверцу шкафчика. Снова замечает фиалки и мысленно восстанавливает их «биографию». Он спрашивает себя: почему Коркер не может быть как все? Как все, просто постарше некоторых. Он припоминает малыша Коркера на синем диване. Вспоминает, как Коркер говорил, что кюммель – штука крепкая. У него мелькает мысль открыть бутылку и плеснуть немного ликера Коркеру в чай. Подавая ему чашку, Алек скажет: с любовью от махи. Старик, должно быть, впадет в пьяный ступор, забормочет: «Маха! Маха! Моя любовь!» Вот засранец, думает Алек, пьяный засранец, который становился на колени, чтобы миловаться с полом. Алек наливает молоко в чашки. Одна из них с трещиной. У него тут огромного размера блюда для овощей, но нет нормальных чашек. Наливая молоко в чай и глядя, как чай окрашивается в знакомый имбирно-коричневый оттенок, он вспоминает, как сегодня утром Джеки делала чай. Чай, чай, чай, чай, думает он, и каждый «чай» ассоциируется с кем-то, кто желал бы получить полную чашку имбирно-коричневого напитка: с ним самим, пьющим чай на кухне матери Джеки, с его собственной матерью, его братьями, которые берут термосы с чаем на работу, с велосипедистами, которые в дождливый день останавливаются у забегаловки, с мальчишками, болтающимися возле ларька с чаем в два часа ночи. Говорят, чай полезен для «коркера» (то есть члена), однако Коркер – другое дело. Коркер, с его коробкой конфет, круглыми столами и дурацкими сантиментами, – все это присутствует в сцене чаепития Коркера, а он, Алек, должен сидеть и внимать. Нет, Алек не винит Коркера за то, что тот родился таким. Но теперь он понимает, какой вывод следует из его второго витка размышлений о десяти шиллингах: как ни жаль мне старого дурня, оставаться с ним на веки вечные я не могу. Ведь не могу?
День. Весна (1794 год). Резиденция герцогини. Справа от часовни – кровать с муслиновым пологом. Герцогиня склонилась над кроватью и хлопочет, что-то бормоча. Садовник занят окраской колеса кареты. Гойя открывает дверцу кареты и спускается на землю. Садовник перестает красить. Оба смотрят на Герцогиню, которая продолжает оказывать помощь лежащему в кровати больному ребенку.
Герцогиня. Уходи, уходи, все несчастья позади, я всю боль заберу, будешь весел поутру…
Садовник. Если бы у нее был собственный ребенок… Но говорят, что герцог не из жеребцов-производителей.
Герцогиня. Вот, выпей-ка, детка. Это из лимонов, выращенных в нашем саду.
Гойя. Какой голос! Ни у кого на свете нет права говорить таким голосом.
Герцогиня. Что тебе приснилось? Что в мире все не так, как надо? Ну-ну, это все только у них, не у нас. Вот так лучше, прохладнее? Сейчас прижму поплотнее, и жар уйдет. Вот так. Хорошо, прохладно, моя радость.
Гойя. Волшебный голос, он как будто перерезает тебе горло от уха до уха.
Герцогиня. Что, болит? Боль, иди ко мне, ко мне, ко мне! Все пройдет, все поправим. Перышко за перышком… Иди ко мне, боль, иди к Каэтане, иди сюда, маленькая смерть.
Гойя. Моя мать говаривала: смерть – это перышко.
Садовник. Твоя мать, дон Франсиско, знает цену