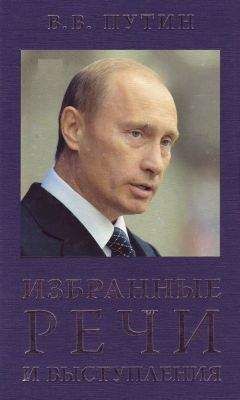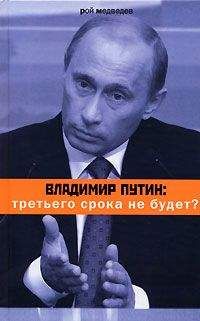Постмодернизм на Кубани возник как реакция на официальную литературу, сосредоточенную в официальных писательских союзах. Его называли «подкожным», «ущербным», «прогнутым», «нечистоплотным», «беспризорным», «безъязыким», «бездарным». Но – далеко не сытым и не абстрактным. Практически во всех «композициях» кубанского постмодерна присутствует порыв. Тот АЗОРИС, та жажда состояться с удесятеренной силой, о которой на заре Эпохального Перелома пламенно говорил Александр Блок.
Пыль России: отжившее и живое
«Едва ли не самым ценным вкладом зарубежных писателей в общую сокровищницу
русской литературы должны будут быть признаны разные формы нехудожественной литературы – критика, эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная литература». С этим заключением Г.П. Струве соглашались многие исследователи [18; 371]. По мнению Ю. Иваска, «самое интересное, что дала эмигрантская литература, – это ее творческие комментарии к старой русской литературе» [10; 8].
За пределами Российской империи после революции и Гражданской войны оказались, люди, которые могли бы составить честь любой европейской литературе: В. Ходасевич, Г. Адамович, В. Вейдле, П. Бицилли, К. Мочульский, Д. Святополк-Мирский, М. Слоним, А. Бем, Ю. Айхенвальд, П. Пильский, Б. Шлецер, А. Левинсон и др. Несколько интересных критиков-публицистов начали свою деятельность уже в эмиграции: Ю. Терапиано, Ю. Мандельштам, Л. Гомолицкий и др. Кроме того, заслуживают интереса критические работы писателей (3. Гиппиус, Д. Мережковский, И. Бунин, Г. Иванов, В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов, М. Осоргин, М. Цветаева, И. Лукаш), философов (Ф. Степун, С. Франк, Б. Вышеславцев, Н. Бердяев, И. Ильин, Л. Шестов), ученых и публицистов (Д. Чижевский, Д. Философов, М. Вишняк, П. Муратов и др.).
Наиболее распространенной позицией в эмиграции считали сохранение наследства. Сохранение культуры для будущей России большинством в эмиграции стало осознаваться их главной миссией уже вскоре после того, как они окончательно почувствовали себя эмигрантами. Подобные рассуждения – почти что общее место в эмигрантской публицистике 20–30-х годов. Да и гораздо позже, уже после войны, оставшиеся в живых представители первой эмиграции продолжали считать это своей основной задачей. Георгий Адамович, неоднократно писавший на эту тему до войны, вновь вернулся к ней в докладе «Надежды и сомнения эмиграции», прочитанном 20 апреля 1961 года: «Последний, важнейший долг нашей жизни – передать в Россию или даже хотя бы только сохранить для России все то, что после самых строгих Внутренних проверок представляется нам великим духовным сокровищем, то, ради чего мы изгнанниками и оказались» [9; 4].
По мнению Г. Федотова, «быть может, никогда ни одна эмиграция не получала от нации столь повелительного наказа – нести наследие культуры». А приписываемое Зинаиде Гиппиус выражение Н. Берберовой «Мы не в изгнании, мы в послании» стало общеэмигрантским лозунгом. Понятие «Зарубежная Россия», сформулированное в 1920 году в статье Б.Э.Нольде, включало в себя весь спектр духовной жизни российской интеллигенции, а микрокосмос русского человека в эмиграции отражал довольно долго макрокосмос России серебряного века. Более того, русские эмигранты считали себя единственными наследниками великой культуры прошлого, хранителями традиций, признанными спасти не только страдающую родину, но и европейский мир. В известной речи «Миссия русской эмиграции» И. Бунин говорил об особом провиденческом значении своих соотечественников, которые, несмотря на их малочисленность призваны сыграть немаловажную роль в мировой культуре: «Есть еще нечто, что присваивает нам некоторое значение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы – грозный знак миру и посильные борцы за вечные божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и повсюду пошатнувшиеся». Ему вторил Б.Зайцев, считавший, что эмиграция – это была Россия, некие выжимки ее духовные». М. Раев заключает: «Ими владело вполне благородное стремление быть истинной и, следовательно, более плодотворной из двух россий, возникших по воле политических обстоятельств. И сами эмигранты думали о себе не иначе как о «стране» и «обществе » [15; 26].
Надежда на интервенцию и сопротивление советской власти внутри страны вдохновляла русскую эмиграцию вплоть до 1925 г., т.е. в первый период истории ее существования, который Г. Струве определил словом «исход». А. Ренников в воспоминаниях «Первые годы в эмиграции» признался, что своей главной задачей считал издание в Белграде газеты «Новое время», просуществовавшей с 1921 по 1926 г. Ее облик определялся стремлением поддерживать любовь к родине, вдохновлять читателя мыслями о том, что лихолетье скоро кончится и пробьет час возвращения в Россию. Только в 1925 году в Софии вышла его первая эмигрантская комедия «Беженцы всех стран», где изображена типичная эмигрантская семья, напоминающая Интернационал [14; 23].
Россия будущая виделась каждой группе эмигрантов по-иному: как сильное государство, восстановившее в своей духовной и политической жизни идеалы православия, самодержавия и народности, как демократическая республика, где свято соблюдается принцип свободы личности, или как часть евразийской цивилизации, более близкой к туранским степям, чем к западноевропейской культуре. Однако, проповедуя разные пути и способы «спасения России», русские эмигранты сходились в единой мечте увидеть родину, свободную от большевистской власти. Поэтому малейшие попытки примирения вызывали негативное отношение в белом стане. Членов группы «Мир и труд», сменовеховцев, сотрудников газеты «Накануне» и евразийцев подозревали в сотрудничестве с коммунистическими агентами и называли «необольшевиками».
Больше всего симпатий вызывала Россия ушедшая. Российский кондовый быт с урядником и тещей в качестве постоянных объектов сатирического разоблачения, превратился в эмиграции в предмет любования. Для целого поколения изгнанников стала лейтмотивом фраза фельетониста Лоло (Л.Г. Мунштейна) из книги «Пыль Москвы. Лирика и сатира» (Париж, 1931):
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я, как символ, свято берегу...
Первый период существования зарубежной России был связан с Берлином, Прагой и Белградом, второй начался фактически с 1924 г., когда ее центром стал Париж. Именно сюда из центральной части Западного Берлина, улицы Курфюстендам, переехала большая часть русских изгнанников, создав удивительный «городок» на Сене. Именно здесь более десяти лет бурлила литературная жизнь, шли ожесточенные споры, издавались русские газеты и журналы разных направлений. В 1925 г. именно в Париже состоялся Зарубежный съезд национальных организаций, и появилась газета «Возрождение» (ред. П.Б. Струве), противостоявшая вплоть до 1940 г. «Последним новостям» П.Н. Милюкова. Это событие знаменовало процесс поляризации русской эмиграции, которая при всех ее разногласиях и разбросанности казалась единой в первый период существования [5;17].
Колоритное описание русского Парижа дано в воспоминаниях З. Шаховской: «Россия «собирается в церкви и у церкви, ест борщ и котлеты в ресторанах дорогих и дешевых... пляшет на беспорядочных почему-то всегда балах, ходит на доклады, скандалит на политических собраниях, протест предпочитая академической дискуссии, она создает церкви, школы, университеты, скаутские отряды и литературные объединения, ждет и надеется, почти без ропота принимая все испытания». К 1936 г. в эмиграции выходило 108 изданий на русском языке, в Париже существовала Русская библиотека им И.С. Тургенева, активно работали Русский народный университет, Франко-русский институт, Православный богословский институт, Высшие военные курсы, Евразийский семинар, Союз писателей и журналистов, Академическая группа. При Сорбонне были созданы Институт славянских исследований, Русское отделение и Русский юридический факультет. Литературная жизнь эмигрантского Парижа оживлялась заседаниями «Зеленой лампы» и докладами во Франко-русской студии. Все это позволяло позабыть про беженское сиротство и попытаться созидать новую жизнь и новую литературу [6].
Локализация мест рассеяния русской эмиграции сохраняла ее национальную самобытность в замкнутом пространстве. В Германии русский Курфюстендам существовал сам по себе, втайне презирая немецкого бюргера, который отвечал ему полным безразличием, поглядывая с высока на «этих странных русских».
Во Франции эмигрантская жизнь тоже продолжала развиваться в замкнутом пространстве русского «городка» на Сене, проникая вглубь чужого менталитета. Говоря о русских собратьях, Г. Адамович заметил: «Франция их не отталкивала, но о них и не помнила».
Пытаясь объяснить иностранцам неразгаданную русскую душу, герой рассказа А. Аверченко «Русский в Европах» заказывает всем вина. Но и трезвый, и пьяный он одинаково непонятен и чужд им. Конец рассказа символичен: расплачиваясь по счету, эмигрант приговаривает: «Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна!». Так в юмористическом рассказе трансформируется идея мессианства России, ее крестного пути, на котором она должна пострадать за всех, чтобы спасти мир.