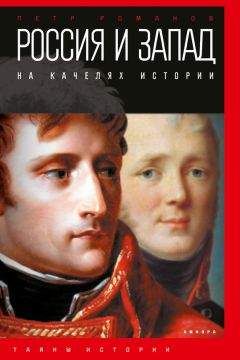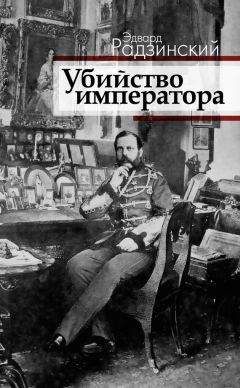или в Италии. И диктаторская тенденция, торжествовавшая тогда в Европе, была угадана верно. Только не это ведь предсказывал Бердяев, но окончательную победу антидемократической тенденции, бесповоротное наступление новой эры средневековья. То самое, что Гитлер называл «Тысячелетним рейхом». Только, разумеется, во главе с Россией, а не с Германией. В этом смысле Бердяев - вместе с Муссолини и Гитлером - попал, как мы знаем, пальцем в небо.
Но говорим-то мы сейчас о другом. О том, что едва охватывала Европу какая-нибудь новая интеллектуальная мода, так тотчас появлялся русский западник и обязательно доводил ее до последней крайности. И объяснял удивленной Европе почему как раз благодаря этой моде России и суждено стать первой в человечестве и, прямо по Хомякову и Достоевскому, повести за собою мир. Разве не точно то же самое, что Бердяев, сделал другой русский западник в эпоху, когда интеллектуальной модой в Европе стал марксизм?
Ведь и уЛенина оказалась вдруг Россия не страной, а «идеей», предназначенной вести за собою мир. В этом случае, конечно, не потому, что была она единственной православной великой державой, как полагали Филофей и Достоевский. И не потому, что «никогда не выходила из средних веков», как думал Бердяев. А потому, что оказалась, как обнаружил Ленин, «самым слабым звеном в цепи империализма». По каковой причине, видите ли, именно России и предстояло эту «цепь» прорвать.
Конечно, как и Бердяев, попал Ленин пальцем в небо. Никакая всемирная вролетарская революция, ради которой и предпринимался «прорыв цепи», ему не светила. Не в последнюю очередь потому, что интеллектуальные поветрия в Европе меняются, и моду на марксизм ожидала в конечном счете та же судьба, что и моду на фашизм.
Единственным результатом ленинского «прорыва» оказалось, таким образом, лишь национальное бедствие России, т.е. крушение в ней очередной Великой реформы и возврат в средневековую ловушку на многие десятилетия. Короче говоря, роль Ленина на перекрестке столетий, в сущности, совпала с ролью славянофилов во времена Великой реформы 1860-х.
Разумеется, ни Герцен, ни Ленин, ни Бердяев не шли так далеко, как славянофилы. Никто из них не объявлял Россию ни обладательницей последней истины, ни особой миродержавной цивилизацией, равных которой на свете нет. Все они, как и положено русским западникам, начиная с декабристов, считали Россию частью Европы. Просто любая интеллектуальная мода, охватывавшая ее, всегда почему-то поворачивалась у них таким образом, что именно России доставалась роль ключа к заколдованному замку будущего. И невозможно, согласитесь, не ощутить здесь влияния славянофильства (с его «национальным самодовольством») даже на самых откровенных его антиподов.
Я говорю о влиянии славянофилов лишь на постниколаевских западников потому, что декабристы были ведь от «национального самодовольства» совершенно свободны. Они не только не следовали модным поветриям с Запада, но шли прямо наперекор интеллектуальной моде своего времени. Ибо в их время, как мы уже знаем, универсальной модой в Европе была как раз романтическая реакция на рационализм XVIII века. Модно было тогда противопоставлять веру знанию, коллективизм - индивиду, национализм - космополитическому миропониманию. Иными словами, модно было тогда именно то, что и подхватили с Запада славянофилы, а вовсе не конструктивная, рациональная и самокритичная мысль декабристского поколения.
Как ядовито заметил по этому поводу Владимир Вейдле: «Европеизм Пушкина был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества: поклонения очередному изобретению, «последнему слову», от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней»[50]. Вейдле, однако, не говорит главного: заразили-то русскую мысль этой странной «склонностью» всё- таки славянофилы.
Лорис-Меликов и Игнатьев
Конечных результатов своего влияния на судьбу России
славянофилы, естественно, знать не могли. Но сам факт этого влияния сомнению не подлежит. Один пример покажет это убедительнее дюжины аргументов.
Читатель, я надеюсь, помнит славянофильское пророчество, что едва лишь рухнет в России «петербургский» деспотизм, так традиционное московитское самодержавие обретет, как нынче говорят, человеческое лицо. И тотчас начнет употреблять свою неограниченную власть на столь несвойственные ему до той поры деяния, как защита «свободы духа, творчества, слова». А благодарный народ тут же и прекратит неприличные занятия политикой, безраздельно отдавшись «духовно-нравственному возвышению».
Напоминать ли читателю, что в действительности всё случилось как раз наоборот? Что крушение николаевского деспотизма привело вовсе не к растворению политики в благочестивой и гармонической «симфонии» славянофильских миров и соборов, но к жесточайшему политическому кризису? Что самая активная часть российской молодежи вступила, подобно декабристам, в открытую схватку с самодержавием? Причем жертвовала она собой как раз во имя ненавистной славянофилам европейской конституции.
«Русский народ есть народ не государственный, то есть не стремящийся к государственной власти» - таков был центральный постулат ретроспективной утопии, на котором основывались все славянофильские прогнозы. Четверть века спустя после падения деспотизма в стране бушевала, по сути, гражданская война. Вопреки прогнозам, русский народ оказался ничуть не менее «государственным», нежели любой другой в Европе. Обнаружилось, что Россия вовсе не «идея», а страна, и притом страна европейская. Во всяком случае, петербургские мальчики добивались от своего правительства точно того же, что мальчики мадридские или неапольские.
Но вот грянул февраль 1880 года. «Народная воля» буквально штурмовала самодержавие. Правительство ответило «белым террором». В стране было введено чрезвычайное положение. Началась короткая пора военной диктатуры Лорис- Меликова (известная впоследствии как «диктатура сердца»). Нас в данном случае интересует, однако, лишь то, какими аргументами обосновывал диктатор столь экстраординарный ответ постниколаевского самодержавия на требование о созыве Думы. «Для России немыслима, - писал он, - никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада. Формы эти не только чужды русскому народу, но могли бы поколебать все основные его политические воззрения»4.
М.Т. Лорис-Меликов|
Читатель опять-таки не нуждается в напоминании, что это отнюдь не язык декабристов, которые как раз во имя «народного представительства в формах, заимствованных с Запада» и вышли на площадь. Но это также и не казённый язык николаевского патернализма, для которого любое народное представительство, своё ли, чужое ли, было анафемой. На чьем же тогда языке говорит генерал, намекая между строк, что народное представительство в формах, не заимствованных с Запада, как раз и могло быть впору России?
Конечно же, никаким славянофилом Михаил Таризлович не был. Он просто хотел, чтобы намёк, содержавшийся в его записке, был правильно понят. Вот почему приём, который он здесь употребил, свидетельствует красноречивей любого прямого высказывания, что четверть века спустя после падения душевредного деспотизма для интеллигентного русского человека, желавшего говорить с властью на понятном ей языке, никакого другого политического языка, кроме славянофильского, просто уже не существовало. Текст
** HR Вып. 17. M,., 1907. С. 43 (выделено мною - АЛ.)
такой, словно написал его Иван Сергеевич Аксаков, возглавивший старую гвардию славянофилов, после того как признанные их вожди - старший его брат Константин, Киреевский и Хомяков - отошли в вечность.
Ибо на что же еще мог намекать Лорис-Меликов, когда делал ударение на «основных политических воз-
зрениях русского народа», несовместимых с «западными формами», если не на славянофильский Собор? Н.П.Игнатьев На тот самый Земский собор, «при
званный посрамить все парламенты в мире», который спустя год после падения Лорис-Меликова и впрямь попытался под влиянием Ивана Аксакова созвать другой генерал - Николай Игнатьев, сменивший у руля страны либерального «диктатора сердца» и тоже казавшийся тогда всевластным. Самое в этой истории замечательное, однако, вот что: попытка осуществить наконец славянофильскую мечту стоила Игнатьеву карьеры.
Глава шестая
Же СТО КЗ Я ИРОНИЯ ТоРжество национального эгоизма
Мы^еще подробно поговорим об этом удивительном эпизоде. Пока что обратим лишь внимание на его мораль. С одной стороны, идейное влияние славянофильства на политический истеблишмент пореформенной России казалось неотразимым. Либеральная бюрократия и говорить-то теперь ни на каком языке, кроме славянофильского, не умела. С другой стороны, однако, самодержавие язык этот по-прежнему не переваривало. Хоть плачь, ну никак не желало оно обрести человеческое лицо, которое привиделось славянофилам.