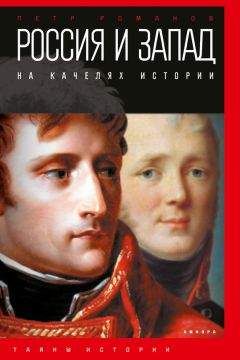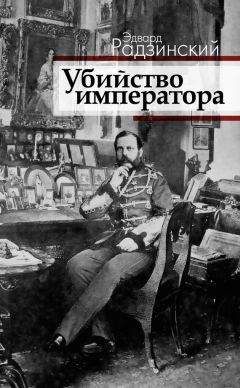Короче говоря, петербургские мальчики начали стыдиться самодержавия, как раньше стыдились рабовладения. Оно было теперь в их глазах главным виновником всех язв, мучивших Россию: и ограбления крестьянства, и захлестнувшей страну дикой волны коррупции, и темноты народной, и общей постыдной отсталости державы. Опять, как в декабристские времена, винила российская молодежь во всех этих бедах именно то, что современные «национально-ориентированные» интеллигенты почтительно, как мы слышали, именуют православной государственностью, т. е. ту самую неограниченную власть, которая, по убеждению старой славянофильской гвардии (и ее нынешних эпигонов), как раз и была непременным условием «духовно-нравственного возвышения народа».
Так где же было место славянофильства в стремительно меняющейся стране, в которой никто больше не желал слышать ни о «возвращении в Московию», ни о «русской цивилизации», ни об историческом первородстве России? Теперь интеллигентная молодежь мечтала (как в 1820-е и как еще предстоит ей в очередной раз мечтать во второй половине 1980-х) о «чечевичной похлебке» Запада, о конституции и парламентаризме. Так где было место славянофильства в ситуации, когда все его прогнозы не сбылись, все пророчества не оправдались?
Как все романтики, славянофилы всегда презирали политику, почитали её изобретением западным, вредным, которому не место на Святой Руси. Но кризис-то, бушевавший в стране, был как раз политическим. Декабристы чувствовали бы себя в нем вполне уверенно. Так же, как либералы и «нигилисты» семидесятых, были они
совершенно убеждены, что страна их европейская и потому не может принадлежать никакому лицу или семейству, что неограниченная власть гибельна, а конституция императивна.
И вообще на новом витке исторической спирали модный в 1830-х романтизм, пленивший родоначальников славянофильства, оказался вдруг очевидным анахронизмом. Пришло время «новых людей». В моду опять вошли декабристский реализм и рациональность.
В этих условиях поведение родоначальников, превосходно усвоивших правила идейной борьбы во времена диктатуры, действительно выглядело нелепым. Невозможно оказалось и дальше сидеть на двух стульях, воспевая одновременно и свободу и самодержавие. Нельзя было больше одинаково ненавидеть и парламентаризм и душевредный деспотизм. Короче, прав был Константин Леонтьев: пробил час выбора - с кем ты и против кого. Время полулиберального славянофильства кончилось - вот что на самом деле в ту пору происходило в постниколаевской России.
Молодогвардейцы уже откровенно полагали себя единственными настоящими славянофилами, уверяя публику, что объяснили «сущность учения славянофилов лучше и яснее родоначальников этого учения»[65]. И если старая гвардия хотела оставаться на плаву, не дав молодогвардейству окончательно вытеснить себя из игры, ей приходилось выбирать. А выбор-то был невелик. Как сказал Иван Аксаков, «теперешнее положение таково, что середины нет - или с нигилистами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно»[66].
В условиях тогдашнего кризиса идти с консерваторами, т.е. с беззаветными защитниками российской сверхдержавности и реванша, могло означать только одно: славянофильству предстояла еще одна драматическая метаморфоза. Оно должно было превратиться в национализм - брутальный, экзальтированный, фанатический. Соответственно неприятие Европы уступало в нем место ненависти к ней, «неевропейский» язык менялся на яростно антизападный, откровенное национальное самообожание вытесняло безобидное
национальное самодовольство, сохранявшее еще, как мы видели, черты декабристской самокритики. И на обломках ретроспективной утопии на глазах вырастал монстр рокового для страны «бешеного» национализма.
Глава шестая
[ РГОЭДЭиИЯ Торжество национального эгоизма
Но если подтверждалась правота Леонтьева, ошибался, стало быть, Михайловский. «Эпоха шестидесятых» так же не упразднила в России славянофильство, как и столетие спустя, в 1960-х, аналогичная полуреформистская эпоха не упразднила в ней социализм. В обоих случаях она лишь положила начало его деградации. Разница была, однако, в том, что если вырождение социалистической идеи шло в направлении от Официальной Народности к «человеческому лицу», то вырождение славянофильства происходило в направлении обратном. Из доблестного борца с Официальной Народностью оно обращалось в поборника её реставрации.
Мощь соловьевского предвидения в том, собственно, и состояла, что он угадал направление деградации славянофильства. Немедленно покинув его ряды, но не успев еще облечь свою догадку в отточенную формулу, он так отвечал своим критикам: «Меня укоряли в последнее время за то, что я, будто бы, перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т.д. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уж не личного свойства: где находится нынчетот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться?.. Какие научно-литературные и политические журналы выражают и развивают «великую и плодотворную славянофильскую идею»? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что... славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием те взгляды и тенденции, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической, и от
скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала - стихийного и безыдейного национализма, который они принимают и выдаютза истинный русский патриотизм; все они сходятся также в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала - в антисемитизме»[67].
Читатель, сколько-нибудь знакомый с нравами современной «патриотической» прессы, не сможет избавиться от ощущения, что речь идет о газете Завтра или о журнале Молодая гвардия. Но Соловьев говорил, конечно, о Московских ведомостях, где Михаил Катков, иронизируя над «всякого рода добродетельными демагогами и Каями Гракхами», ликовал, что «пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию»[68]. Или о Варшавском дневнике, где царствовал Константин Леонтьев, задававший себе риторические вопросы вроде следующего: «Отчего же не донести на тех, которые даже исподволь потворствуют Ткачевым, Гартманам, Засуличам и т. д.?»[69].
Неотразимость сходства лишь в том, что язык «национального самообожания» не балует нас разнообразием. Он не зависит от времени и пространства, будь то в Гражданине князя Владимира Мещерского (1890-е), в Voelkischer Beobachter Альфреда Розенберга (1920-е) или в Нашем современнике Станислава Куняева (1990-е). Просто имеем мы здесь дело с универсальным международным кодом бешеного национализма. Во всех случаях неизменно состоял смысл этого кода в одном и том же: страна поднимается с колен после эпохального поражения. И все либеральные разговоры о неприличности доносов и вообще о гарантиях от произвола власти лишь отвлекают от судьбоносной задачи, мешают ей подниматься. Вот от этой роковой подмены национальных ценностей и пытался уберечь Соловьев своих бывших коллег из старой славянофильской гвардии.
Не уберег. В конце концов покинуть родной идеологический дом, где и стены помогают, ничуть не менее мучительное, надо полагать, предприятие, нежели эмигрировать из своей страны. И неудивительно, что большинство национал-либералов оказалось на это неспособно. Высоколобое меньшинство, главным образом интеллектуалы, протянет еще несколько десятилетий. Пусть на вторых ролях, пусть как рантье, доживающие век на дивиденды от капитала, нажитого первым поколением славянофилов с его декабристским наследством и «неевропейским» языком.
Это интеллектуальное меньшинство будет активным в земствах, в столичных кружках и в Религиозно-философском обществе, где «национально ориентированная» публика самозабвенно спорила о преимуществах русского мессианизма перед христианским эйкуме- низмом, о «философском национализме» и о новом религиозном сознании. Только жизнь и политика, в особенности международная политика, которой и предстояло в конце концов решить судьбу России, будет идти мимо них. Эта сфера станет вотчиной воинственного молодогвардейства, на глазах деградировавшего, как точно угадал Соловьев, в «стихийный и безидейный национализм». Знаменем его и впрямь станет ненависть к еврейству.
Конечно, еще и в 1890-е могли российские читатели услышать от генерала А.А. Киреева, возглавившего после смерти Ивана Аксакова обломки старогвардейского меньшинства, такие бравые пассажи: «Мессианистическое значение России не подлежит сомнению... Одно только славянофильство еще может избавить Запад от парламентаризма, анархизма, безверия и динамита»51. Ни у кого не оставалось сомнений, однако, что звезда этих людей закатилась уже безнадежно. Достаточно сравнить «мессианистическую» уверенность Киреева с рекомендациями славянофилов второго призыва, чтобы понять, насколько нелепо звучала она в эпоху, когда властителями националистических дум были уже Николай Данилевский и Константин Леонтьев.