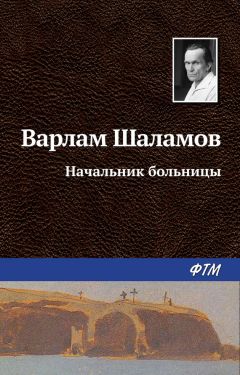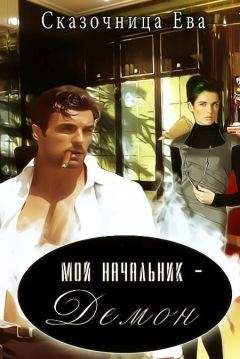Два ржавых провода телеграфной линии всюду шли рядом, среди остальных, темно-серого цвета, и эта рыжая нитка была всем заметна на фоне присыпанных снегом полей. Она хорошо перечеркивала их картину, отвечая мыслям начальника об этой бедной, заоконной, полевой красоте, прославленной школьным учебником и платным поэтом, но еще не охваченной хорошим всеобщим порядком.
«Чтобы наблюдать красоту кругом, в природе, и получать от нее удовольствие, а не ахи, нужно иметь спокойствие и достаточное одиночество от слишком многих, окружающих нас ежедневно людей. Может, так бы и надо, но я не хочу, — признавался начальник.
— Я человек оживленный, быстрый, а для современных, быстрых людей нужна красота моментальная, красота, переработанная другими людьми, которые специально посажены на это дело, — такая, как кадры в кино, или дом из стекла, этот поезд, в котором я еду, метро, или женское, пронзительное по своей специальной прелести, каждый год изменяемое по стилю лицо».
Топятся печки, идет кверху дым, от каждой деревенской трубы свой дымок; кто-то вышел зачем-то к железной дороге, — стоит в кусту и смотрит на поезд; проезжаются мимо деревни, поровну освещенные с неба.
«Ну что они там делают? Просто живут? — думалось начальнику в его высокомерной радости. — А я везу письмо, с трудом, умно и хитроумно добытое, от этого письма всем у нас в цехе польза: и рабочим, и Крёкшину (пусть его тоже), Михельсону, с его тяжелой анкетой, — ну и мне; Мария Ивановна, возможно, получит квартиру, будет душ, справедливость, сократятся простои, станет больше продукции, а от этого...»
Что от этого будет, начальник не мог и представить.
— Продукция! — повторил он опять, и это слово начинало пухнуть, заполняло все области, отведенные им своему удовольствию, хоть сам он, в своей ежедневной жизни, никогда не сталкивался с той продукцией, какую выпускал.
«Они нам сеют и делают рожь, хорошо, но мы им сделаем нечто другое, например, продукцию...»
Еще ему вспомнилась баня и цех, парикмахерская «Мать и дитя», милиционер с плохим свистком, но с рупором для направления, быстрый референт, увлеченный, со скрепочкой.
Тут начальник загляделся в окно, на пути.
Как моментально сливаются, сходятся воедино четыре, три, два самостоятельных пути со шпалами, рельсами, фонарями, — в один-единственный путь, без возможности выбора, уже невидимый под своим колесом.
«Но, наверно, нельзя жить в такой дикой скорости?» — вдруг подумал справедливо начальник, прежним своим мыслям подумал навстречу, подумал, испробуя и такую дорогу.
Если жить всегда на такой большой скорости — в суете и делах, эта скорость создаст тебе домик среди прочей жизни. Надо медленнее жить, и тогда растворятся, рассеются стены у дома, который нам сделала скорость и спешка, жить станет хуже, мучительней, но это так надо, потому что нельзя защищаться от хаоса для себя.
Вот до чего доходил теперь в мыслях начальник, вот до каких пониманий добирался он после своей остановки в Москве.
— Да, так, наверное, нужно, — но я так не думаю! — тут же сказал он себе с полной искренней силой.
«Чтожемнеделатькогдаятакдумаю», — снова возникло у него изнутри, выросло как объяснение, как искупление, как оправдание всего, что он делал — искренней жизнью у него в голове.
«Чтожемнеде... или мне тогда нужно не жить? Ятакдумаю! — ведь должен же я жить по собственным мыслям?»
«Человек должен жить по совести. Все передовые люди всегда боролись за то, чтобы человек жил по совести — или же нет? Человек должен жить по свободной совести. Все, кого мы так ценим сейчас из истории, всегда боролись за это, за свободную совесть, потому что и любые догматики всегда стремились заставить других жить по совести — по очень узкой, ограниченной совести».
Совесть должна быть свободной — вплоть до полного своего отсутствия.
— А совесть так думать тебе позволяет?
Начальник прислушался: совесть ему позволяла.
— Но если мои мысли пойдут вразрез? — боялся начальник еще в институте.
— Вот и хорошо! — говорило неискренне ему руководство. — Пусть они идут вразрез с общепринятым.
Он поискал, но не нашел ни единственной мысли вразрез.
Невозможность ясно в себе разобраться очень впервые его напугала, и даже появлялось отчаяние по этому .поводу.
«Но ведь бываю я грязный, если долго без бани, — а ничего же, я себе полюбовно прощаю, так как временно, и так же прощают мне те, кто меня любит, — а всем остальным ни за что не простят».
«Правда, могут вдруг разлюбить, и тогда уж припомнят».
— Как бы случайно не разлюбили, пока я тут еду! — испугался начальник, встал, снова сел, и опять заторопился вперед, на работу, в свой цех, на завод и домой, где уже без него привыкали жить люди, которые могли вдруг его разлюбить.
Как всегда, если он заторапливался, он не умел вместе с этим и думать — и больше ясными мыслями всю дорогу не думал.
Перед городом он пошел в туалет.
Из дырки умывальника начальнику в лицо задувал толчками подколесный ветер.
Он вымыл руки, лицо, вымыл зубы, выполоскал маленькие крошки изо рта от обеда. На всякий случай он сделался чище.
11. ВСЁ МОЁ
— А я уже на голову старше! Мне стол уже по грудь! — крикнула Маша, когда он вошел, — так, будто он уезжал на полгода, и обняла его руку, большую для нее, как целый человек.
— Ну приехал? Здравствуй, — ласково сказала жена, подходя, чтобы он ее обнял за шею.
— Есть хочу, тебя не вижу! — закричал начальник весело, увидав, что его еще тут любят. Он бросился на кухню, но вспомнив, что жить надо медленнее, вернулся и тихо стал ждать, пока согреется ужин.
Женщина! подруга имперского завтрака жизни! В ней есть всегда неизвестное, сверх наших пониманий, а уйти не посмеет.
12. МАКЕТ ЧЕЛОВЕКА
Утром начальник понес на работу письмо.
У входа в свой цех он заметил одно небольшое новшество, которое сам заказал в прошлом месяце. В вестибюле стоял манекен — чучело женщины в белом халате, одетое так, как бы всем полагалось входить в этот цех. Чучело являло пример производству, всем инженерам и служащим и рабочим их цеха.
Начальник кругом обошел манекен. Он вспомнил, как заказывал его по частям (голову, например, делал мастер в модельном), как приучал Михельсона следить за заказом — все же Михельсону нельзя целиком доверять производство, он человек отвлеченный, нерусский, да и никто еще не воспитался настолько, чтобы почувствовать важность того, как одеты все в цехе, как повязаны белые косынки работниц, как застегнут халат и какой он длины.
Он видел, что некому их воспитать, если он не попробует этого сделать.
— Наконец-то! — воскликнул начальник, любуясь. Он вступил на монтаж, вынул письмо. Начальник шел, наслаждаясь красивостью работы и настроением людей. К нему уже подбегали.
«Все же я счастливый человек, — думал он, — не подымался высоко, не падал глубоко».