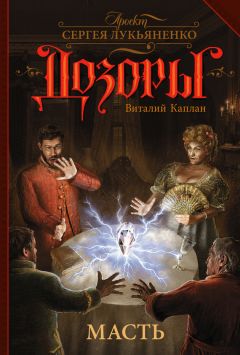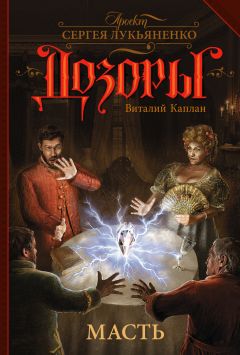– Конечно, конечно! – закивала госпожа Скудельникова. – Настасья уже всё приготовила. Только боюсь, не холодновато ли там будет?
– Я из дому шубу приволоку! – сообщил Алёшка. – Барин ею в погребе и накроется, она тёплая, на волчьем меху.
И повёл он меня, слегка осоловевшего, в крошечную кухоньку, где зиял уже чёрным квадратом ход в погреб.
Вот с этим Прасковье Михайловне повезло. Домишко на Никитской, в которой пришлось ей перебраться после продажи движимого и недвижимого имущества, был тесным – две комнатушки да кухонька, и крыша в сильные дожди текла, и сруб весьма заметно покосился. Но вот погреб тут оказался роскошным. Глубокий – сажени две в глубину, и большой, чуть ли не с половину занимаемой домом площади. За без малого год хозяйствования госпожа Скудельникова успела его как следует обжить. Перебрались сюда из прежнего её дома бочонки с грибами и огурцами, с яблочным вином и брагой. Варенья и маринады, бутыли и связки сушёных грибов украшали обшитые грубыми, нестругаными досками стены. И не так уж тут было холодно. Если бы ещё магией погреться…
Жаль, ею – нельзя. Об этом мы с Алёшкой сразу условились, едва выползли из чёрной дыры на ту сторону. Врата привели нас не в глухие пропасти земли и не в Зимний дворец, а прямёхонько на городскую свалку, откуда до Никитской было рукой подать. «Никакой магии, – постановил Алёшка. – Вас ведь искать станут оба их сиятельства… Наверняка пошлют дозорных шнырять по городу, отслеживать колебания Сумрака».
Он был прав. Я ведь, как сказочный Колобок, и от бабушки Яблонской ушёл, и от дедушки Стрыкина, но в отличие от сказки по мою душу посланы и лисы, и волки, и медведи… Да, мальчишка придумал замечательно – уж где-где, а у несчастной старухи Скудельниковой искать меня будут в последнюю очередь. Графиня о ней скорее всего и не знает, а дядюшка давно забыл – после продажи Алёшки та навсегда потеряла для него интерес. Что парень по старой памяти навещает иногда бывшую свою барыню, я дядюшке не упоминал, просто к слову не приходилось, да и не имело уже никакого значения после того, как вышел он из Сумрака Светлым. Графине Алёшка тоже про то не говорил – видимо, стеснялся.
На всякий случай, однако же, нам стоило хотя бы первое время отсидеться в погребе. А то ведь есть ещё и соседи с Никитской, нередко заглядывающие к старухе на огонёк… и подозреваю, не только на огонёк. Уж больно забористую гнала она брагу из яблок, из малины, из крыжовника. Людям удовольствие, а ей лишняя копеечка. Вот только плохо, что жёны этих получавших удовольствие нередко являлись к Прасковье Михайловне и много чего ей высказывали. Попадаться на любопытные глаза уж больно не хотелось.
Сказку для старухи придумали мы сообща, прямо там, на свалке. Я, поручик Полынский, как было уже ей известно, служил в тверской конторе Тайной экспедиции. И вот с апреля, расследуя, казалось бы, пустяковое дело об оскорблении величества, кое поручил мне граф Иван Саввич, нарыл я ни много ни мало как настоящий заговор столичных вельмож, мечтающих низвести с трона государыню и, минуя даже сына её Павла, посадить на престол юного внука Александра. Понятное дело – двенадцатилетним мальчишкой вертеть не в пример легче, нежели взрослым и вздорным его родителем. В заговоре замешаны такие высокие люди, чьи имена и называть-то не следует. К сожалению, не хватило мне розыскного опыта, и заметили заговорщики мой к ним интерес. Заметили – и немедля решили стереть настырного следователя с лица земли. Потому идёт сейчас на меня охота, а граф Иван Саввич, когда открылся я ему, заявил, что перед сими могущественными особами трепещет и потому защитить меня никак не может. Лихие люди, наёмные душегубы, рыщут по Тверской губернии, поручено им выкрасть меня, доставить в Санкт-Петербург и там уж основательно выпытать, что мне известно и кому я что успел рассказать. Пришлось покинуть дом свой и несколько дней скитаться по пригородным лесам, пока Алёшка не убедил меня попросить помощи у старой секунд-майорши.
«А не струсит ли бабка? – засомневался я. – Не испугается ли наёмных душегубов?»
«Не струсит, – уверенно заявил Алёшка. – Уж чего-чего, а подлого страха в ней нет. Прасковья Михайловна хоть и не больно-то умна, и суетлива, а вот злодеев не забоится. Особенно когда они, злодеи, злоумышляют против государства. И между прочим, Терентий Львович таким же был. Пьяница, бабник, бузотёр – а за державу, говорят, честно кровь лил».
Так оно и вышло – приняли нас с Алёшкой будто родных. Опасался я, правда, за Настасью, слишком уж болтлива, но было мне сказано, что хоть и болтлива, а не глупа, и знает, когда язык тройным узелком завязать следует.
К тому же, как объяснил я Прасковье Михайловне, не навсегда я к ней в погреб переселяюсь. Два дня всего нужно мне. Через два дня подойдёт к Твери лейб-гвардии Семёновский полк, в котором некогда мне довелось служить и где у меня полно друзей. Полк же ходил в учебный поход в Москву, стоял на тамошних своих квартирах, ныне же возвращается к месту постоянной дислокации в Санкт-Петербург. В полку я и укроюсь, верные друзья-офицеры, имеющие связи при дворе, возьмут меня с собою в столицу, помогут получить аудиенцию у государыни-матушки, вот ей-то я в подробностях и раскрою заговор. Тогда-то и наступит победа, наказание неверных и награждение верных (к коим, разумеется, отнесена будет и госпожа Скудельникова). Глядишь, и прежнее имущество удастся выкупить милостью царской…
«Ну а через два дня что будем делать? – выслушав Алёшкину фантазию, осведомился я. – Когда окажется, что никакого полка к Твери не подошло?»
«Вот в том-то и дело, что идёт сюда полк, – огорошил меня мальчишка. – Просто я не всё успел тебе рассказать. Утром, едва ушёл ты в Контору на доклад, заявился к нам Костя. Предупредил, чтобы я из дома ноги делал, ибо Ночной Дозор сообразит: где ты, там и я, и установит за мною слежку. А ещё про многое другое сказал… в числе прочего и что из Москвы сюда Семёновский полк идёт, к субботе вечером, наверное, уже будет».
Оказалось, что, пока Прасковья Михайловна потчевала меня простым, но сытным обедом, Настасья всё в погребе приготовила для нашего с Алёшкой проживания. Два соломенных тюфяка, тазик для умывания и, конечно, поганое ведро – как же без него. А ещё вдоволь, от щедрот – сальных свечей.
– Спать будешь? – поинтересовался Алёшка, закрыв крышку погреба. Огарок свечи, укреплённый в глиняной миске, почти не разгонял темноту, пронзительно пахло старухиными заготовками, и скреблась в дальнем углу мышь. Уютно, что сказать…
– Какой уж тут сон, – вздохнул я. – Давай уж, рассказывай, что тебе Костя поведал.
– Эх, кабы можно было магией сейчас пользоваться, – мечтательно протянул Алёшка, – я бы не рассказал, а показал. Потому что зримозапись вёл. Думал, ты потом посмотришь, потому как дело крайне важное. Но пока нельзя, придётся на словах. А было так: прибежал он, Костя, где-то спустя четверть часа, как ты в Контору отправился. Заметь, прибежал, а не сквозь портал явился. Потом уж сказал, что «скороходом» воспользовался, был у него свой. И смотрю я на ауру его, а там вообще с ума сойти! Вроде как и второй у него ранг силы, а вроде и шестой. И лица на нём нет, бледный весь, скулы так заострились, что порезаться можно. Не стал он долго мяться, быстренько всё мне рассказал – и как поймали тебя в хранилище, и как допрашивали в кабинете у графини, и как он тебя из подвала выпустил. А знаешь, что дальше было?
– Что же? – с живым интересом спросил я.
– А дальше он к Виктории Евгеньевне пошёл, в её покои, в пятом часу, когда светало уже. Разбудил и повинился, дескать, не смог вынести творящегося бесчестья и потому дал тебе свободу. Но и таить сие от её сиятельства тоже не может, ибо получилась бы мерзкая ложь. И потому вроде как припадает он к её стопам и отдаётся её суду.
– И что же графиня Яблонская? – Тон мой был шутливым, но внутри царапалось и саднило. Если столь свирепа оказалась графиня ко мне, предателем сочла – хотя никогда я ей в верности не клялся! – то уж тем более обозлится на Костю.
– Кричала она на него! Недоумком обозвала. Ну и наказание наложила. На месяц снизила ему ранг силы до шестого, а воздействия на людей, равно как на Иных, и вовсе запретила. Так что не может он сейчас ни порталов открывать, ни на второй слой Сумрака ходить, ни даже Тихой Связью разговаривать.
– Легко отделался, – выдохнул я. – Могла бы и в вешалку… на девяносто девять лет. Так он за тем только и приходил, чтобы про горести свои поведать и тебя предостеречь?
– Не только, – подумав, признался Алёшка. – Он помощи у меня просил.
– Это в чём же?
– Графиню хочет спасти. А то, говорит, ей последние дни остались.
– Ничего себе! – Я еле сдержался, чтобы не присвистнуть. – Это каким же манером?
– Мы все неправильно думали, – глухо заговорил Алёшка. – И ты, и я, и Януарий Аполлонович. Считали, что ей артефакт «белая вода» нужен, чтобы перебить царицыну Светлую охрану. А Костя сказал, что ничего подобного. Совсем другой у заговорщиков план, и он про то сам случайно узнал. Видать, подслушал разговоры старших. В общем, так. Идёт из Москвы в столицу Семёновский полк, и офицеры все там уже охмурённые, им и в столице, и в Москве вольные каменщики мозги прополоскали, ещё с позапрошлого года. Мало-помалу приучали к мысли, что надлежит гнусную язву самодержавия выжечь, и кто сие сотворит, тех имена славой покроют себя в грядущих веках.