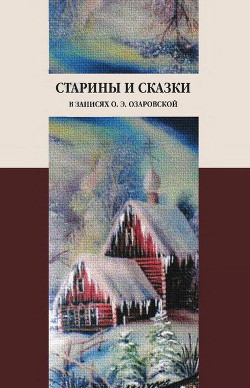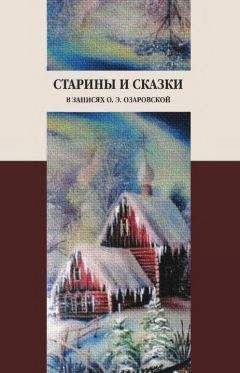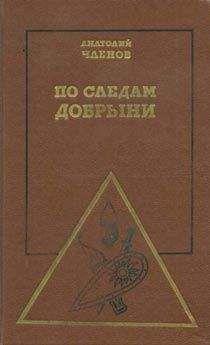— Не видали-ли где Ванюшки!
— Вчера видели, севодня не видали.
— Ах, подлец, наверно, убежал!
Естли бы в море потонул, то давно бы выкинуло, а то нигде нету. И так не бывал двадцать лет. Он уже старшим матросом ходил, женилса в Англии, трое детоцек уж было у них. И услыхал он, што корабь идет в Архангельско за пшоницей. Он и нанялса старшим матросом: маму охота повидать. Жоны сказал, она заплакала.
— Узнат тебя мать, останешься там!
— Нет, я не признаюс.
Ну, пришли в Архангельско. Он думат:
«Естли мама жива, дак она у пристани булочками торгует».
И увидал ей, подошол и булочку купил за три копейки, потом в трактирчик зашел, у раскрытого окошка сел; чай пьет, на маму смотрит.
И так каждой день: булочку возьмет, у раскрытого окошечка сядет, на маму смотрит. Только и всево. Две недели так прошло, завтра утром корабь запоходит обратно. Он в последний раз булочку купил и двадцать пять рублей под булки подсунул.
Она ево не узнала, и он не призналса.
Так и уехал. Вечером Ографена деньги нашла, соседкам говорила:
— Двадцать пять рублей кто-то обронил. Завтра спрашивать станут, дак я отдам.
Она незавидна на деньги была, эта женьчына, я ей хорошо знал.
На следуюшший год, весной, уж ево сердце тоскует: в Архангельско проситце. Опять нанялса на такой корабь, што за пшоницей идет. Жона беспокоїтце, плачет:
— Оставишь ты нас, мама тебя узнат!
— Не узнат. Тот-там раз не призналса и опять не признаюс.
Опять также булочку у матери покупат, в трактире у открытого окошечка сидит, на мать гледит. На отъезд сорок рублей приготовил и на прошиенье под булки подсунул.
Ографена опять деньги шшытат, — сорок рублей лишны. Опять торговкам рассказыват, а они ей:
— Да, што это, Ографена! у тебя: то двадцать пять рублей лишны, то сорок, у нас — дак не у ково. Смотири, не сын ли тебе помогат?
— А, наверно, он, подлец! Ну, теперь стану всем покупателям на руки смотреть, не подсунут-ли?
И всем Ографена стала на руки смотреть. Нет, нихто денег не подсовыват! Какой даст поболе, дак сдачи спрашиват.
Ну, и опять год прошол. Ографена стала уж старой. Ты пошьчытай-ко, сколько годов вперед ушло. А тот уж с весны на корабь нанялса в Архангельско итти, пшоницей грузитьса.
Жона просто ручьем разливатца, плачот:
— Узнат тебя мама, ты признашься, останешься, забудешь нас!
— Да не признаюс. Те-там разы не признавался и сей раз не признаюс.
И опять: пароход стоїт, грузитца, а сын у матери булочки покупает. Она ево узнать не может: он бретый, как англичанин. Знашь, англичанин бретый, черной, как свинья палёна!
Однако она всем на руки смотрит.
Сын булочку за три копейки купит, в трактирчик пойдет, у открытого окошечка сядет, чай пьет, на маму смотрит. На отъезд он уж ей сто рублей приготовил.
А она всем на руки смотрит.
Вот он в последний раз булочку купил и сто рублей подсунул.
А Ографена всем на руки смотрит, да как закричит:
— Караул! Грабят!
Ему бы не бежать, а он побежал.
Ево поймали и к часному повели. Она часному тихонько говорит:
— Это не грабитель, и он меня не ограбил. Это мой сын, и он мне сто рублей дал. Я хочу, штоб он созналса.
Часной говорит:
— Сознавайса! Ты ей сын?
— Ни-ни-ни!
По-англички.
— Документы!
Ну, документы у ево аглички, все в порядке.
Она опять тихонько у часнова спрашиват:
— Можно ли ево донага раздеть? У ево родимо петно на левом боку, дак уж я признаю.
— Можно. Раздевайса!
Тот опять головой мотат, по-аглички говорит:
— Ни-ни-ни!
— Ладно! Не в Англии, — в Расеи. Раздевайса!
Ну, тот видит, раздевайса, не раздевайса, — сознаватса надо. И пал матери в ноги:
— Мама! У меня за капитаном семьсот рублей денег, я все отдам, только отпусти меня!
— Мне не деньги нужны, а сын нужен.
— Мама, пожалей меня! У меня жона в Англии, трое детоцек…
— А присегнешь на їкону, што на будушшу вёсну всех привезешь?
У часнова їкона была, он присегнул.
И, действительно, все семейство привез.
Корабь две недели пшоницей грузитца. Ну што две недели? Как одна минуточка пролетели. Надо расставатца. Она и говорит:
— Как я без сына жила, оставь мне теперь стартова внука. Весной опять все приежжайте.
Он оставил. На следуюшшую весну она стала присматривать, кавово теперь бы ей внука оставить, а сын говорит:
— Мама! Да поедем с нами! Посмотришь, как у нас в Англии живут…
Она и поехала. Да там и осталась. Говорят, очень ей в Англии пондравилось.
Этот рассказ мальчуганы, набравшиеся вокруг холмика, слушали, раскрыв рты, и каждый с молодцеватым и удалым выражением думал: вот, мол, я какой — мать не признал. Но потом они обмякли, притихли и насторожились. Помор дрогнувшим и рвущимся голосом продолжал.
32. Сын к матери
Три года тому уж. Был я на заработках в Архангельске и собралса осенью домой, да последний рейс пропустил. А как пропустил? Загулял и все деньги пропил.
И билет был, дак и ево пропил. Осталса в Архангельске.
И захотел маму видеть. Такая охота маму повидать, што были бы крылья, так на крыльях бы полетел! Заработал маленько, взял да и пошол пешой. Сколько это верст будет, пошшитай-ко! Летним берегом пошол. Каки оставалис деньги, все приел. Морозы ведь уж. Иду гододной, а все маму в мыслях держу. Близко уж Сорока, уж стал из силы выходить. Там знакомець жил. Я зашол в дом, на ево кровать повалилса. Хозейка пришла, видит, спит-храпит на хозейской кровати незнаемой человек, испугалас. Однако муж в скорости пришол:
— Какой это проходяга? Это Олександр Останин! Не тронь! Пусть спит!
Ну, проснулса я, напоїли-накормили.
— Што же ты, говорит, горной дорогой идешь? Какая такая нужда?
— Маму охота повидать.
Он мне три рубля дал. Немного я тут на лошади подъехал, а там опять побежал. Уж недалеко. И пришол в самую минуточку: мама помирать стала и все меня звала. Все же застал ее.
Все смолкли. Московка вопросительно взглянула на Кулоянина, но он продолжал угрюмо вязать петли. Махонька выручила.
33. Мать и львица
Был-жил царь; у этого царя была жена молода и была у его мачеха. Сколько он жил с женой, и жена стала беременна и родила, а он выбыл куда-то не надолго время. Родила два мальцика. Она намаялась и уснула, а мачеха была зла, подкупила солдата:
— Вались к ей на кровать, брюки-ти верхни сдерни, вались в одних почтаниках.
Он так и сделал. Она донесла царю:
— Вишь у тебя жена, не успела родить, а спит с другом.
Царь схватил саблю, солдата сказнил этого и собрал собранье: как жену, куда девать, — дети незаконны.
Для людей она была милослива, добра; люди ей жалеют, сказали:
— Если они незаконны, дак закопать ей с детьми на полгода. Если незаконны, дак погибнут.
Ну и спустили їх в погреб.
Жили они полгода и выкопали їх на верьх. Ну, эти дети хороши прехорошеньки, как налиты чем, полны.
И ползают по полу, у царя, у башмаков пряжки шшиплют.
Он не замог терпеть, ногами стоптал с глаз.
Отвезли ей в цисто поле: поди там, куда знаешь.
Посадила одного мальцика по праву руку, другого на леву и пошла. Шла, шла, приустала. День был солнешной, теплой, повалилась с детями и уснула: один на правой руки, другой на левой. С левой-то руки прибежала львиця и унесла мальцика. Она разбудилась: мальцика-то у ней нету. Вот тебе жалко, тут и зажал ела и походила, походила, увидала в пещоре лежит львиця и лапками тешит мальцика; наносила яблоков, всего и грабит, грабит лапками, тешит, веселит его.
Мать вышла на угор, перекрестилась:
— Слава богу, мое дитятко не погинет!
И сама пошла с одним. Приходит в деревню. У старицка и старушки попросилась ноцевать. Ноцку ноцевала, и другу ноцевала и понравилась эта молодиця їм.