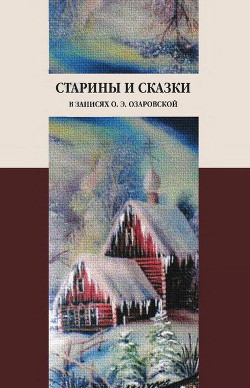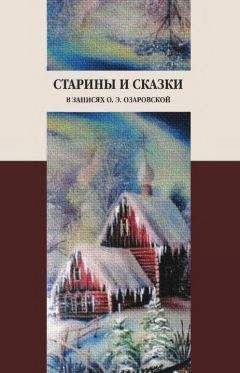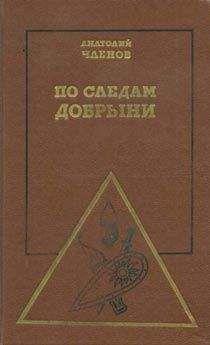— Живи, молодиця, у нас ты, рости сына; у нас детей нет, станет ростить, дак будет сын, хлебы будут.
Скольки-ле время прошло — сын стал годов петнадцати, а старик был раньше боhатырь. У его в комнаты были складены латы булатные.
Этот сынок ходит, оденет латы булатные и маширует там.
Старушка эта подсмотрела его, сказала старику:
— Это нам не хлебы, этот сынок. Он одел латы булатные и маширует.
— Как тут не хлебы? Нам эти самые тут и хлебы.
Време идет, этот сынок — подходит ему двадцать лет. У этого царя сделалась война.
Он разослал везде бумаги, вот требовать на войны.
Этот сын средилсе на войну. Стал просить у дедушка, у бабушки блаословенья.
Они поплакали, блаословили и спустили его.
Он на судно и отправилсе. Идет это судно морем, увидели на берегу человек нагой.
Бросили ему поштаники. Он поворочял, поворочял и стал надевать. Бросили рубашку ему, — он тоже поворочял, поворочял, надевать стал рубашку.
Потом они стали к берегу приставать. Пристали к берегу. Этого целовека стали їмать, он и зеревел. Львиця и подбежала, тут и есь. Стала людей забирать, горячице стала, а он стал ей унимать. Ну его на судно повели. Львицю бы и не взели, она за їм след, он ее приглашат, люди и не посмели ей оставить.
Они сошлись на судне, и вот брат брату рассказал: «ты мне брат!» Научили его говорить по-русьски.
И пришли в осударьсво. Стали срежаться воевать в чисто поле с противником, и поехали, отправились: один на кони, а другой на львици. Один брат едет по праву руку на кони — народ улицами валитце. По леву руку львиця кинетця — так улицей с переулком, втрое валит народ. И всех перебили и отправились на пир к царю. Тут царь принимает воїнов, ужинает.
Они из застолья вышли, да и в ноги пали.
— Батюшко — мы тебе сыновья. Ковда вы нас отвезли в цисто поле, одного из нас воспитывала львиця, а другой — жил у дедушка с бабушкой и мати также.
А бабка злая слушает.
Он їх зашеїл, в уста поцеловал:
— Дети мои возлюбленные! Где наша бабушка? Мы на одну ногу наступим, другу разорвем.
А бабушка уж в петлю полезла да задавилась.
Московка пошепталась с Махонькой, так просияла и запела.
Махонька закончила эту древнюю былину, которую она одна знала во всей стране,[75] а Скоморох прерывал пенье заливистым смехом.
Кулоянин заметил:
— Ты бы замест смеха Вавиле молился: твой покровитель.
— Даже їконы еговой не живет!
— Нет, живё.
— А ты видал?
— Видал!
У Московки, что называется, в зобу дыханье сперло. Хочется спросить, а страшно: вдруг опять носырей назовет. Не вытерпела:
— А hде видал? А какая она?
Дед строго посмотрел, помолчал и милостиво ответил:
— Недалеко от нас Онуфриевы Кельї были. Етот скит Александр Третей розорил. У нас скитница оттуда жила и їкону ету оставила. Хороша. Писана по старому правилу. Вьюноша Вавило воссел, в руках гусли, и воспеват и возыгрыват. Он играет-то в Киеви, а на выигрыш берет в Цари-гради. Для скоморохов полезна їкона.
— Дедушко, рассказал бы ты каку-ле сказку про мать!
— Матери разны бывают. Бывают и хуже мачехи. Вот расскажу…
Сменил гнев на милость и рассказал.
351. Талань
Не в каком царсви, не в каком осударсви, а именно в том, в котором мы живет, жили были два брата. Один жил боhато, у его была лавка, он торговал, а другой жил бедно, бился, бился. Дошли до того, што завтре детем їсь нечего дать.
Жона говорит: сходи на заре к свешшенику: попроси у его хлеба.
Он пошол, ешше тёмно, свешенник спит, и не посмел он заколотитьсе, пошел домой.
Идет мимо гумнишша и слышит, как два роботника заспорили, он стал слушать. Стал слушать, а ето спорят Талань да Учась. Учась говорит:
— Што ты, говорит, над своїм рабом сделала? Што он так бьетсе, и довела его до того, што детем и їсь нечего дать сегодня.
— А ето за то, што он бедным не внимает, над старыма смиется.
Вот пришел он домой, жона спрашивает:
— Ну, што, достал хлеба?
— Нет, не посмел заколотиться, поманя пойду.
А сам задумался, как ето он бедным не внимал и над старыма надсмиялсе? «Теперь уж таков не буду!» Вышел он из дому, а под ноги ему Талань и порснула. Он взял ее, в кладовушку занес и на латку посадил. Сходил к свешшенику: опеть у того ешше темно — спят. Вернулся в кладовушку, смотрит: а Талань кругом златинками обложилась. Он взял одну златинку и говорит жоны:
— Я пойду у брата куль муки куплю.
— Да што ты? Откуль у тебя столько денег?
Он пошел, подал брату златинку, — он ему и куль муки, и круп и всего надавал, што и не унести, а на лошади нать везти.
Привез домой и говорит:
— Мне ешшо и красной товар какого ле нать.
Жона ему:
— Да што ты? Да кольки у тебя денег?
Пошел, взял у Талани с латки две златинки и пошел к брату, подал ему две златинки. Брат посмотрел и говорит:
— Дак за эти златинки и товару тебе не нарезать. А, знать, бери половину всего, што в лавки есть и в кладовой, и торгуй так же, как я.
И повезли ему всякого товару, половину, што в лавки было и што в кладовой. Стал торговать, и торговля пошла такая, што только поспевай лавки строить.
Строил лавки в разных городах и заграницей уж стал.
Вот он уехал заграницу на долго, а тут стал к его жоны солдат из казармы ходить, Васильем звали. И стал он удивлятся, откуда у їх такое боhасьво: «што нибуть у їх уж есь». Стал спрашивать ее:
— Скажи, што ето, откуда у вас такое боhасьво? Што такое у вас торговля идет: никогда никакой утраты нету. Што-нибуть есь?
— Есь, да сказать не смею — она отвецят.
— Да хто жа нашу таїнку узнать? Знать только будем ты да я, да мы с тобой.
Она ему и сказала:
— У нас Талань есь… и росказала.
Вот и задумал он напустить на себя лютую немочь, и што будто во снях ему привиделось, што надо ету Талань подколоть и изжарить: я съем серьце этой Талани, и она уж во мне будет.
Вот он и напустил на себя лютую немочь: на коецьке лежит и в больницю не хочет.
Она ждет, ждет Василья: не ходит к ней, вот уж сколько дней. Взяла там дессерту, конфетиков собрала, надернула платок и отправилась. Там дневального солдата спрашивает:
— Где у вас тут Василей?
Дневальной отвецят:
— Есь такой у нас, очень болен, на коецьке лежит и в больницу не хочет.
— Нельзя ли к ему?
— Можно.
Он ее провел.
— Василей, да што с тобою?
— Ах, мне как не можется…
Упала она к ему на белы груди, слезами заливается.
— Да не надо-ли тебе чего? Не хочешь-ли чего?
— Да, во снях мне виделось, што подколоть бы мне Талань, да зажарить, да серьце съесть, дак я бы оправился.
— Ах, как же я могу подколоть ей, муж вернется, узнает.
— Да, знать, ребята пулях ловят, купи у їх пуляху, да подмени. Талань подколи, да зажарь, а на место ей пуляху посади.
Вот она так и сделала. Купила у ребят пуляху, лапки свезала и на место Талани опутинками к латке привязала, а Талань подколола и кухаркам наказала скоро изжарить.
Вот кухарки скоро справились, из пецьки ето жарко вынели, поставили, а двое детишек тут бегали, стали жаркое пробовать, да так подравилось, што пробовали, пробовали, да все съели.
Кухарки хватились.
— Вот, што теперь вам будет? Матка теперь вам уши нарвет, што как ей ето жаркое скоро куда-то нести было нать.
Ребятишки придумали:
— Вот поймайте цыпленка у куры, да поджарьте. Она не узнает.
Они так и сделали и в пець опеть поставили. Хозяйка справилась итти:
— Што жарко? Готово-ли?
Кухарки отвечают:
— Да вынели было из пецьки, да нам показалось, как сыровато, дак опять в пець поставили.
Она тут ногами затопала:
— Ах вы такие, сякие, ницего справить скоро не можете.
Ну, потом дождалась наконец, как жарко скоро поспело, и снесла в казарму. Василей цыпленка съел.