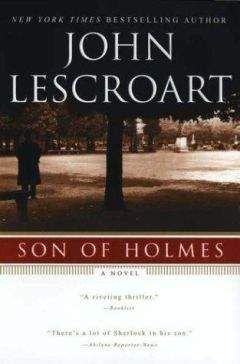совершенно нагой, без каких бы то ни было идеологических одеяний. Стул – это стул, а не трон. Башмаки сносились от ходьбы. Подсолнухи – растения, а не созвездия. Почтальон доставляет письма. Ирисы увянут. Вот из этой наготы, которую современники считали то наивностью, то безумием, выросла его способность влюбляться – внезапно, в любой момент – в то, что он видел перед собой. Схватив перо или кисть, он стремился воплотить,
исполнить свою любовь. Художник-любовник, утверждающий доблесть каждодневной нежности, о которой мы все мечтаем в наши лучшие минуты и которую немедленно узнаем, когда видим ее в раме…
Слова, слова. Но где это видно в его работе? Вернемся к рисунку. [98] Он выполнен тушью, тростниковым пером. За день художник делал множество подобных рисунков. Иногда, как в данном случае, прямо с натуры, а иногда – с какой-нибудь из своих картин, которые висели у него в комнате на стене, пока не высохнет краска.
Такие рисунки были не столько подготовительными набросками, сколько графически выраженными надеждами; они показывали самым простым способом, без усложнений в виде технических приемов живописи, куда – если надежды его оправдаются – может привести его акт создания картины. Эти рисунки – карты его любви.
Что же мы видим? Тимьян и еще какие-то кусты, известняковые скалы, оливковые деревья на склоне холма, вдали – равнина, в небе – птицы. Он макает перо в коричневую тушь, внимательно смотрит перед собой и наносит на бумагу линии и штрихи. Движениями пера управляет кисть руки, запястье, предплечье, плечо, может быть, даже мускулы шеи, однако линии на бумаге послушны потокам энергии, которая физически ему не принадлежит и которая становится видимой, только когда он рисует. Потоки энергии? Да, энергия растущего дерева, растения, тянущегося к свету, ветки, которой нужно найти свое место среди соседних ветвей, энергия корней чертополоха и кустов, камней на склоне холма, солнечного света, притягательности тени для всего живого и томящегося от жары, энергия северного ветра – мистраля, который и сформировал слои горных пород. Мой список, конечно, условен – безусловна только характерная комбинация линий на бумаге. Как отпечаток пальца. Чьего?
Этот рисунок из тех, для которых важна точность (каждый штрих отличается ясностью и недвусмысленностью), но этот же рисунок полностью забывает о себе в своей открытости тому, с чем встретился. А встреча получилась столь тесной, что нельзя сказать, где чей след на бумаге. И впрямь карта любви.
Два года спустя, за три месяца до смерти, Ван Гог написал небольшую картину: двое крестьян копают канаву. Он сделал ее по памяти – она отсылает к тем крестьянам, которых он рисовал за пять лет до этого в Голландии, и к его многочисленным картинам, посвящениям Милле, созданным в разные годы. Но это еще и картина, темой которой является то особое слияние, которое мы находим в упомянутом рисунке.
Фигуры крестьян, копающих канаву, написаны теми же красками, что и поле, небо и отдаленные холмы, с преобладанием картофельно-коричневого, лопатно-серого, линяло-синего (цвет выцветшей робы французского рабочего) цветов. Мазки, обрисовывающие их руки и ноги, идентичны тем, которые передают все неровности рельефа окружающего их поля. Высоко поднятые локти землекопов – словно еще два гребня, два пригорка над линией горизонта.
Картина, разумеется, не о том, что эти двое – «комья земли», как в ту пору свысока называли крестьян многие горожане. Слияние людей с землей указывает на их взаимный обмен энергией, который и составляет суть сельского хозяйства (в более широком смысле это объясняет, почему сельскохозяйственное производство нельзя сводить к чисто экономическим закономерностям). Возможно, картина указывает также – учитывая любовь и уважение Ван Гога к крестьянам – и на его собственный изнурительный труд художника.
Весь свой короткий век Ван Гог был вынужден играть с жизнью, рискуя потерять себя. О ставках в этой игре можно судить по его автопортретам. Он смотрит на самого себя как на незнакомца – или на нечто непонятное, с чем он неожиданно столкнулся. В его портретах других людей больше личного отношения. Когда дело заходило слишком далеко и он полностью терял себя, последствия, как услужливо напоминает нам легенда, оказывались катастрофическими. Об этом говорят и его собственные картины и рисунки, которые он делал в такие моменты. Вместо слияния – расщепление. Все вычеркивало все остальное.
Когда же (в большинстве случаев) он выигрывал в этой игре, отсутствие контура вокруг собственного образа на автопортрете позволяло ему необыкновенно раскрыться, а всему, что он видел, проникать прямо в душу. Или нет? Может быть, отсутствие контура позволяло ему давать себя взаймы, выходить и входить и проникать в другого? А может, бывало по-всякому – опять-таки как в любви.
Слова, слова. Вернемся к рисунку с оливковыми деревьями. Разрушенное аббатство находится, я полагаю, позади нас. Это мрачное место – вернее, было бы мрачным, если бы от него не остались одни руины. Солнце, мистраль, ящерицы, цикады да иногда птичка удод все еще старательно очищают его стены (аббатство было разорено во времена Французской революции), все еще находят мельчайшие детали его прежнего могущества, подлежащие уничтожению во имя сиюминутности.
Художник сидит спиной к монастырю, глядя на деревья. Оливковая роща словно бы наступает, придвигается, навязывает себя. Он узнает это чувство – оно часто посещало его и в закрытом помещении, и на воздухе, и в Боринаже, и в Париже, и здесь, в Провансе. На эту назойливость (возможно, единственную форму любовной близости, какую он знал в жизни) Ван Гог откликается немедленно и всем своим существом. Он как бы пробует на ощупь все, что видит. И свет падает на веленевую бумагу со следами его прикосновений точно так же, как на камешки под ногами у художника, – на одном из этих камешков (нарисованном на бумаге) он напишет: «Винсент».
Сегодня в рисунке Ван Гога мне чудится что-то, чему трудно дать имя, но если ограничиться одним словом, то это благодарность. Благодарность кого или чего – запечатленного места, художника или нас самих?
31. Кете Кольвиц
(1867–1945)
Я познакомился с Эрхардом Фроммхольдом в Дрездене в начале 1950-х годов, когда центр города еще лежал в руинах. Союзники разбомбили его 13 февраля 1945 года, убив за одну ночь сто тысяч мирных граждан; большинство из них сгорели заживо при температуре, достигавшей 1800 градусов по Фаренгейту. В 1950-е годы Фроммхольд работал редактором в издательстве «VEB Verlag der Kunst».
Он стал моим первым издателем: опубликовал мою книгу об итальянском художнике Ренато Гуттузо – за несколько лет до