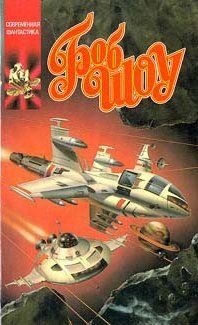Сьюзен забыла постучать. Она старалась помнить об этом. Сыну почти пятнадцать, он нуждается в уединении. Но помнить было трудно, потому что он, казалось, не имел никаких тайн, в нем не было ни тени вздорности, которой она ждала от сына-подростка.
— Привет, — сказала она. — Прости, что не постучала, мне стало тревожно за тебя. Ты хорошо себя чувствуешь?
Выглядел он как-то не так. Слишком рано встал из-за обеденного стола. На него это было не похоже. Бен ответил, что с ним все в порядке. Она покивала, стоя в двери, держась ладонью за дверную ручку. Ее все больше поражало, внушало все большее облегчение то, что она помогла произвести на свет этого мальчика, это светозарное существо, которое получает лучшие оценки без какой-либо зубрежки, понимает спорт, как птица понимает полет, и — что замечательнее всего — без всякой издевки относится к другим детям, большая часть которых стоит в том или ином отношении ниже его. Она чувствовала в этом некое избавление. Будь она женщиной религиозной, ей, пожалуй, привиделся бы в этом знак благоволения Божьего, одобрения им наших усилий, готовности закрывать глаза на предрасположенность нашей плоти к падению. Она и Тодд вместе вырастили мальчика, который живил их дом своей добротой, своей скромной, но безоговорочной одаренностью. Он был оправданием их жизни, причиной всего. Она спросила:
— Так ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?
И он неохотно, потому что был таким, каким был, — мальчиком, который болезненно, это же видно, переносит редкие у него приступы раздражения и подозрительности, — неохотно признался ей, что недолюбливает дядю Вилла. Она прикусила нижнюю губу. Ах, Билли. Ей не хотелось ополчаться на него, потому что она знала брата слишком маленьким и слишком беззащитным. И очень хорошо понимала, какую пагубную паутину сплели их отец и мать. Но в то же самое время и неприязнь сына была ей понятна. Она ощутила даже, внутренне покраснев, мгновенную, мучительную для нее потребность поаплодировать этой неприязни. Сын жил в мире простой добродетели, и для сделанного Билли выбора места в этом мире не было. Она с удивлением обнаружила, что может и обожать своего сына, и любить Билли, и невнятно радоваться нелюбви сына к Билли. Она напомнила Бену о том, как важно оставаться терпимым к людям, какими бы они ни были. Сказала, что дядя Вилл — хороший человек, что мы должны быть великодушными к людям, даже если не одобряем полностью выбор, который они совершают. Ей нужно было как-то уравновесить влияние Тодда с его мелкого помола нравственностью, с нараставшей ненавистью ко всему, что отлично от него. Бен согласился с ней, чего она, собственно, и ожидала, пусть даже сама согласной во всем этом с собой не была. И она попросила его спуститься к десерту. Пообещав, что сразу после десерта он сможет пожелать всем спокойной ночи и вернуться в свою комнату.
Когда Сьюзен и Бен вернулись в столовую, Тодд испытал облегчение. Он не любил оставаться наедине с братом жены. Не то чтобы вещи такого рода действовали ему на нервы. В них присутствовало скорее социальное затруднение, чем какой-либо телесный дискомфорт. Странное чувство, странное. Собственно, даже и не социальное, в строгом смысле этого слова, потому что у них всегда имелась тема для беседы — система образования. По счастью, этот тип был учителем. Всякий раз, как Тодд и Вилл оказывались один на один, кто-то из них обязательно заводил разговор о прискорбном состоянии американской образовательной системы, и они мусолили эту тему, пока не возвращалась, чтобы спасти их, Сьюзен. Так что нет, не чисто социальное. Дело, наверное, в том, что присутствие ее брата в доме отдавало какой-то чрезмерной вольностью. Казалось, что в дом залетела птица. Брат Сьюзен создавал примерно такое же ощущение диковатой угрозы. Никто в этом не признается, но ведь каждый из нас побаивается жаворонка, сойки — да хоть воробья, когда тот залетает в наш дом и начинает порхать по комнатам. Такое любого достать способно. Пренебрежение ко всему, ощущение жизни, которой здесь отнюдь не место. В общем, когда Сьюзен и Бен вернулись, он почувствовал себя так, точно кто-то изловил эту сумасшедшую птицу.
Увидев Сьюзен, Вилл в который раз удивился, хоть и отсутствовала она всего несколько минут. Она старела, вот что удивляло его. Не само старение, но то, что сестра обращалась в одну из тех жилистых, покрытых лаком женщин, про которых говорят: «Когда-то была красива». То, что Сьюзен когда-то была красавицей, а ныне взяла курс на закат. Когда ее сын угрюмо опустился на стул, Сьюзен сообщила:
— Он потратил столько сил на домашнюю работу по естествознанию, что я решила накормить его десертом, а после отправить в кровать.
Ненормально, конечно, что Сьюзен начала приобретать усталый вид, а Зои выглядит лучше, чем когда-либо прежде. Зои, больная, живущая с сыном в Ист-Виллидж без каких бы то ни было денег. Зои, ставшая в последнее время бледной и четкой, как роза. Что же, Сьюзен купила сразу полный комплект, не так ли? Вышла за адвоката, за украшенный колоннами дом в Коннектикуте и обязалась быть в дальнейшем сокровищем. А теперь начинает проступать наружу напряжение сил, которого это потребовало. Такую цену и платят люди за упорядоченное существование, за покорство. Вилл любил Сьюзен, жалел ее, но при этом скрупулезно выискивал свидетельства того, что она несчастна. Разумеется, ей приходится расплачиваться горем за все, что она получила. Виллу было стыдно, и тем не менее он не мог не желать для нее какой-то кары за ее республиканское благополучие, за поддельно сельский интерьер ее дома, за недалекого мужа, политические воззрения которого были лишь немногим левее воззрений Гитлера, и за их сына, росшего в таком безоговорочном богатстве, что, став взрослым, он сможет по-настоящему, всерьез навредить нашему миру. Вилл мирился с визитами в дом сестры, но удовольствия от них не получал. Он говорил Гарри, что ощущает себя антропологом, пытающимся зафиксировать обряды и ритуалы древней культуры, которая начинает разваливаться под бременем накопленной ею истории, упрямой веры в то, что можно жить и не изменяться. Вспомнив о Гарри, Вилл извинился и ушел в свою комнату, чтобы позвонить ему. Сказал, что забыл известить Гарри о том, что благополучно добрался до Коннектикута, хотя на самом-то деле ему просто хотелось услышать голос Гарри, звучащий среди здешних сосновых буфетов, старинных зеркал, аманитских стеганых одеял, медных горшков и ситцевых наволочек, услышать, ясно сознавая тот никем вслух не признанный факт, что, не будь он братом Сьюзен, ее муж и сын никакого удовольствия, принимая его в своем доме, не испытывали бы. Он хотел, чтобы Гарри напомнил ему: эти люди побеждают далеко не всегда.
— Алло?
— Привет. Это я. Доехал.
— Все в порядке?
— Конечно. Более-менее.
— Они уже довели тебя до белого каления?
— Да. Разумеется.
— Ты не можешь говорить откровенно?
— В общем-то, нет.
— Ничего, скоро все закончится. Уик-энд состоит всего из двух дней, а здесь тебя ждет бутылочка скотча.
— Это хорошо.
— И я. Я тоже жду.
— И того лучше.
— А теперь возвращайся к республиканцам и разговаривай с ними поласковее. Проникнись к ним жалостью. Выборы они проиграли, да и все нынче идет не так, как им хочется.
— Ты действительно веришь в это?
— Нет. Просто пытаюсь утешить тебя. Позвони мне завтра, если захочешь.
Зои дышала через пластиковую трубку. Пыталась понять, улыбается ли она. Наблюдала за Биллом и Сьюзен, которые наблюдали за ней. Там, где она находилась сейчас, было все то же — болезнь, тяжесть в легких, усталость, которая не давала ей приподняться, как будто все ее тело опутывали тонкие нити. Была боль, затрудненность дыхания, привычный страх, но теперь она жила внутри всего этого. Она начала соединяться со своей болезнью и наблюдала за сестрой и братом издали, как будто отъезжала на поезде, а они остались на перроне и смотрели ей вслед. И, словно отъезжая на поезде, ощущала печаль, смешанную с облегчением, удивительное, извращенное удовлетворение, рождаемое всего-навсего тем, что она едет куда-то, а все прочие остаются позади. К ней приходило понимание: умирать, быть может, совсем не так тяжело, как ей казалось. Она поняла, что может просто уйти. Соединиться с болезнью и не тревожиться больше ни о чем, перестать удерживать себя здесь. Пусть болезнь получит ее. Сестра что-то сказала. Зои приподняла руку, с усилием натянув незримые нити. Положила ладонь на ладонь Сьюзен. Сьюзен нуждалась в утешении. И Зои была рада утешить ее, потому что знала, как делается это простое, обычное дело. Потом вернулась мать и с ней Джамаль, — мать стояла, беспомощная, красиво одетая, положив ладони на плечи Джамаля. Зои, увидев сына, покинула болезнь и возвратилась в комнату, потому что не ощущала в расставании с ним никакого удовлетворения, даже намека на него. Сын тянул ее назад. Он смотрел на нее, и глаза его сердито поблескивали, не узнавая. И Зои постаралась остаться в комнате — ради него. Постаралась снова запахнуть собой. И улыбалась? Она сняла с ладони Сьюзен свою ладонь, протянула ее Джамалю. Он отступил на шаг, и Зои впервые услышала голос, который не был голосом, не произносил никаких слов, просто прокатывался сквозь нее, как камень. Отдай ему его ужас, его ненависть, все, что он предпочтет запомнить о любви, и пусть он живет. Она подумала, что сможет сделать это, и ощутила блаженное облегчение, бывшее более глубоким и полным, чем любой сон. Но затем решила не делать. Осталась в комнате, дышала, пока Вилл не понял наконец, каких это требует усилий, и не увел их всех.