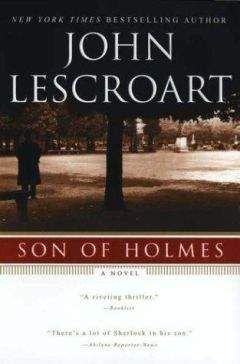он впервые приехал в Лондон в возрасте приблизительно семнадцати лет. Отец послал его в Сандерленд учиться английскому, по-видимому втайне надеясь, что сын забудет о своей мечте стать художником. Цадкин самостоятельно добрался из Сандерленда до Лондона и остался там, не имея ни денег, ни работы. После долгих скитаний он устроился в мастерскую по изготовлению резной мебели для церквей.
«В какой-нибудь английской церкви стоит кафедра, на ней вырезан орел, держащий Библию на распростертых крыльях. Одно крыло вырезал я. Так что это „Цадкин“, хоть и неподписанный. Рядом со мной в мастерской работал настоящий английский краснодеревщик, – я таких до тех пор не видел. Когда он работал, рядом с ним на верстаке всегда стояла пинта эля. И он надевал очки, сдвигая их на краешек носа. Как-то раз он мне сказал: „У тебя, парень, есть одна проблема: уж слишком ты мал ростом. Никто не поверит, что ты справишься с работой. Знаешь что, вырежи-ка розу, носи с собой и всем показывай, понял?“ – „А из чего мне ее вырезать?“ – спросил я. Он порылся под верстаком и выудил оттуда яблоневую чурку – отличный кусок дерева, старый такой, коричневый. Ну я и вырезал розу со всеми лепестками и даже с несколькими листиками. Так тонко вырезал, что, если ее потрясти, лепестки колыхались. И старик оказался прав. Когда кончились срочные заказы, меня из мастерской уволили. Я начал искать работу, но все посматривали на меня скептически. Совсем мальчишка, крошечного роста, да еще с английским таким… приблизительным. Но как только я вынимал из кармана розу, говорить ничего больше было не нужно. Мне сразу давали работу».
* * *
Мы стоим в мастерской Цадкина перед его ранней скульптурой – вырезанной из дерева обнаженной женщиной.
– Иногда бывает так: смотришь на свою работу и понимаешь, что это хорошо. Тогда я, чтоб не сглазить, стучу по дереву или еще лучше – трогаю свою правую руку. – Цадкин трогает тыльную сторону своей маленькой правой ладони, словно касается чего-то невероятно хрупкого – осеннего листа, например. – Было время, я даже подумывал распорядиться, чтобы, когда я умру, все мои работы из дерева сожгли вместе со мной. Это когда про меня говорили «скульптор-негр». Но теперь все эти вещи в музеях. И когда я умру, то возьму с собой только несколько глиняных статуэток в кармане и несколько бронзовых – на поясе. Как коробейник.
* * *
Цадкин сидит в маленькой спальне, примыкающей к мастерской, попивает белое вино, которым очень гордится (он привозит его в Париж из деревни), и вспоминает:
«Когда мне было лет восемь, я гостил в деревне у дяди. Дядя строил баржи. Работники распиливали на доски вручную целые древесные стволы, от вершины до комля. Один забирался с пилой наверх – он выглядел прямо как ангел. Но меня больше интересовал другой – тот, что стоял внизу. Он был с ног до головы покрыт опилками. Свежими, смолистыми опилками, так что сам пах древесиной – опилки забивались даже ему в брови. Когда я гостил у дяди, я гулял совершенно один вдоль реки и однажды увидел, как молодой человек тянет лодку. А в ней сидела молодая женщина. И они орали друг на друга. Вдруг я услышал, как мужчина сказал: „…зда“. Ну вы знаете, детей такие запретные слова иногда пугают. Вот и я испугался. Правда, я это слово слышал раньше однажды – и понятия не имею, откуда я узнал, что оно запретное. Я шел по коридору между кухней и столовой и, проходя там, увидел мужика из деревни. Он держал одну из наших горничных на коленях и расстегивал ей платье – вот он это слово и сказал.
Я кинулся прочь от реки и от их брани к лесу, поскользнулся на бегу и плашмя упал на землю.
И вот как раз в этот момент – когда я упал лицом вниз, убегая от реки, – как раз в этот момент мой бес впервые тронул меня за рукав. И я, вместо того чтобы вскочить и бежать дальше, вперед, пошел назад – посмотреть, на чем это я поскользнулся. И обнаружил, что поскользнулся я на глине. И тут мой бес опять тронул меня за рукав. Я наклонился и зачерпнул пригоршню глины. Затем подошел к поваленному дереву, уселся и начал лепить фигурку – впервые в жизни. И сразу забыл свой страх. Это была фигурка мужчины. Позже – уже в отцовском доме – я обнаружил, что у нас на огороде тоже есть глина».
* * *
Семью годами раньше. Ноябрьское утро, около десяти часов. В мастерской уже светло. Я заскочил к нему, чтобы что-то занести или забрать. Время, подходящее для работы, а не для разговоров. Но он настоял, чтобы я присел ненадолго.
– Меня очень занимает время, – говорит он. – Вы пока молоды, но когда-нибудь тоже это почувствуете. Бывают дни, когда я вижу темное пятно высоко в углу мастерской, и тогда я спрашиваю себя: успею ли я сделать то, что должен сделать? Поправить все мои недоделанные скульптуры. Видите вон ту фигуру? С ней все в порядке, кроме головы. А голову надо переделывать. Я смотрю на них все время. Если вы скульптор, то в конце концов у вас почти не остается места для себя – работы вас вытесняют.
* * *
Шедевр Цадкина – памятник стертому с лица земли и возродившемуся затем городу Роттердаму. Вот что он сам писал об этом:
«Этот памятник пытается объять всю нечеловеческую боль, причиненную городу, у которого не было другого желания, как только жить по воле Божьей и расти привольно, как лес… Памятник задумывался и как урок будущим поколениям».
36. Генри Мур
(1898–1986)
Творческая эволюция скульптора Генри Мура – трагический пример того, как полуправды, на которых основано модернистское искусство, в конце концов приводят к бесплодию и – если говорить о восприятии – к массовому самообману. «Трагический» – потому что Мур, несомненно, старался быть честным художником.
Тридцать его ранее не выставлявшихся бронзовых скульптур, больших и малых, находятся теперь в Лестерских галереях. Есть среди них и фигуры в человеческий рост под названием «Король и королева» – с коронами, похожими на ручки от кувшинов, с выскобленными, вогнутыми, сплющенными, как сушеная рыба, телами; их вполне правдоподобные руки покоятся на бескостных и безжизненных, словно матрасы, коленях. Они сидят, слепо уставившись глазами-дырками (сквозь которые можно при желании что-нибудь продеть, как сквозь ушко иголки) на посетителей, а