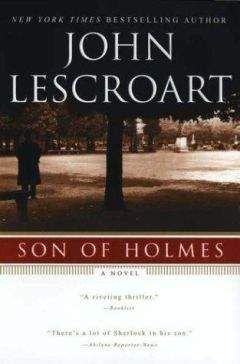с тем неизменно удивлять зрителя, заставляя его обходить скульптуру круг за кругом, чтобы увидеть
другую сторону, – произрастает из очень осмысленного, досконального и традиционного овладения ремеслом скульптора. Когда Муру было уже за восемьдесят, он по-прежнему делал тщательно проработанные рисунки деревьев или овец – так могли бы рисовать Мантенья или Жерико. Он был в одно и то же время и новатором (поскольку привнес в скульптуру совершенно новый тактильный аспект), и традиционалистом. Только так он и мог добиться желаемого.
Если бы Мур изобрел некий «примитивный» язык, то выраженный в его творчестве опыт ограничился бы опытом младенчества. Какие-то работы пробуждали бы у кого-то давно забытые воспоминания, но эти вновь обретенные воспоминания не стали бы универсальными, всеобщими. Им суждено было бы остаться сугубо локальными и инфантильными. А Муру хотелось – точнее, сидящий в нем демон навязчивой идеи подталкивал его к этому – создать пространство для инфантильной памяти внутри классической концепции человеческого тела. Ему хотелось интегрировать инфантильный материал не через иллюстративность или ситуативность (за исключением одной скульптуры, наиболее «материнскими» из его фигур оказываются те, где ребенок отсутствует), но как воскресший в памяти образ особого опыта прикосновения к формам – и прикосновения форм.
Фигуры, сколь бы малы они ни были, выглядят гигантскими. Почему? Потому что в воображении автора они как бы ощупываются маленькими ручками. Их поверхности подобны пейзажам, поскольку прочувствованы очень близко, вплотную. Их знаменитые пустоты и дыры – это области первых ощущений ребенка, когда мать прижимает его к себе, качает на руках, а он тычется носом в ее тело. Работы Мура, как никакие другие, напоминают нам, что мы – млекопитающие.
Когда я говорю о том, что тема младенчества проходит сквозь все творчество Мура, это не значит, разумеется, что я предлагаю свести к ней все его работы. Так, например, у Ватто сквозной мотив – смертность человека, у Родена – подчинение, у Ван Гога – труд, у Тулуз-Лотрека – момент перехода смеха в жалость. Мы говорим о навязчивых идеях, которые определяют характер художественного жеста и мировосприятия того или иного художника на протяжении всего творческого пути, даже если его сознательное намерение в тот или иной момент заключалось в чем-то другом. Это своего рода склон воображения, по которому все, что бы ни делал художник, съезжает к родной для него теме.
Творческое наследие Мура неравнозначно. Свои худшие работы он создавал, как мне кажется, в период, когда его скульптуры были наиболее востребованы и когда большинство критиков не ставило под сомнение их ценность. Помню, в конце 1950-х годов, когда я имел неосторожность критически отозваться о его последнем творении, это едва не стоило мне работы в журнале «Нью стейтсмен». На меня смотрели как на изменника родины!
Поскольку во всей скульптуре Мура подспудно присутствует тема довербального опыта, его творчество – легкая добыча для особой культурной апроприации, или «присвоения». Стоит опутать его искусство словами, как оно становится всем для всех. Такая универсальность играет роль алиби для самых разных случаев. Вот почему скульптура Генри Мура могла превратиться в эмблему медиагиганта «Тайм-Лайф» [108] – и в эмблему ЮНЕСКО! Такое, конечно, не впервые случается в истории искусства. Мода и beaux-arts [109] часто выступают как партнеры по танцу. Только после первой смерти, во второй своей жизни, произведение искусства может диктовать зрителю свои условия.
В 1950-е и 1960-е годы Мура часто сбивали с пути амбиции. Или лучше сказать (в жизни он всегда оставался человеком скромным) – его искусство сбивалось с пути из-за амбиций других людей. Оно теряло из виду свою навязчивую идею и отдавало связанный с ней язык на откуп риторике. Никакой энергии, рвущейся изнутри наружу, тогда не наблюдалось. «Король и королева» (1952–1953), на мой взгляд, представляют собой прекрасный пример этого в высшей степени продуктивного и относительно бесплодного периода.
Напротив, последний этап творческой биографии Мура – в особенности когда ему было под восемьдесят и дальше – отличается несравненным богатством. В это время он встал вровень с Тицианом и Матиссом – в том смысле, что его творческий путь, как и у них, оказался кумулятивным и в конце достиг апогея. Тогда он отыскал – и сделал это великолепно – путь назад, к тому, что всегда надеялся найти.
Поглядим на его статую «Мать и дитя» (1983–1984; отлита 1986). Мать изображена сидящей. Одна ее рука похожа на ручку обитого материей кресла. На этой ручке, как мексиканский прыгающий боб, балансирует ребенок. Вторая рука расслаблена, ее почти реалистически сделанная кисть зависла над коленями. Лица полностью лишены черт. Но есть две приметы, которые в высшей степени характерны для мастера. Первая – сосок левой груди, который не торчит наружу, а, напротив, представляет собой отверстие, наподобие горлышка некой «чувствующей» бутыли. А вторая деталь – отчетливый выступ на условном лице младенца, словно затычка для этого горлышка, тампон для этой раны и, в конце концов, жизнь для этого кормления.
Когда пытаешься описать эмоции, вызванные этой – практически последней – скульптурой Генри Мура, на языке так и вертится слово «мумия». [110] Если не считать руки́ матери над коленями, то все формы здесь заключены в футляры, запеленаты, обмотаны, как мертвец у египтян. Приготовлены для выживания в вечности. В ней, как и в мумии, ощущается важный смысл того, что внутри. Скульптура, разумеется, не такая прямая и неподвижная, как мумия в своем саркофаге, и включает не одну фигуру, а две. Однако конечности и тела сходным образом связаны, спеленаты и несут на себе следы прикосновений. На сей раз не для того, чтобы спрятать и сохранить, а для того, чтобы их поверхность напоминала крупный план того, первого тела, до которого дотрагивался каждый из нас.
Последним обрядом египетской погребальной церемонии было «отверзание уст». Сын покойного или жрец торжественно открывал рот усопшего, чтобы пребывающий в ином мире имел возможность говорить, слышать, двигаться и видеть. В великом последнем произведении Генри Мура ртом становится материнский сосок.
37. Петер Ласло Пери
(1899–1967)
Я знал про Петера Пери с 1947 года. В то время я жил в Хэмпстеде и проходил мимо его сада, где он выставлял скульптуры. Я был студентом художественного колледжа, недавно демобилизовавшимся из армии. Скульптуры Пери произвели на меня впечатление не столько своим мастерством (в то время многое интересовало меня больше, чем искусство), сколько странностью, вернее, «иностранностью», нездешностью. Помню, как я спорил с друзьями. Друзья говорили: грубо и некрасиво. Я защищал эти скульптуры, потому