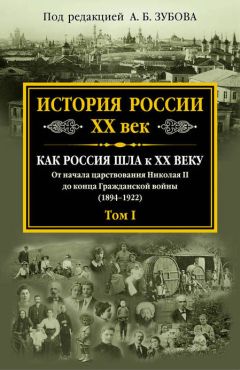Было это новое закрепощение освобожденных народов в действительных интересах России? В 1989 году, когда началось крушение империи, обнаружилось, что ничего, кроме ненависти закрепощенных народов, принести оно стране не могло. А в массах тем не менее было оно популярно необычайно. Кто не слышал в те времена сакраментальную фразу «Мы их от Гитлера спасли, а они, сволочи...»? Так о чем же в конечном счете говорит нам эта странная на первый взгляд связь между советской доктриной и давно, казалось, умершей идеей царских времен?
Ну, прежде всего, массы не имеют возможности компетентно судить о том, что составляет действительный интерес страны. Во-вторых, говорит зто нам о феноменальной долговечности идей. В-третьих, наконец, об их способности работать в автономном режиме, т.е.совершенно независимо от реальных интересов. Маркс, в отличие от Плеханова, был слишком тонким мыслителем, чтобы зтого не понимать. Потому, надо думать, он и предложил компромиссную формулу, предназначенную примирить материалистическое объяснение истории, т.е. приоритет интересов над идеями, с этой автономной — и порою решающей — ролью идей в истории. Все, кому случилось вырасти в СССР, эту формулу помнят: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой».
Естественно, что Н.А. Нарочницкая тоже исходит из формулы Маркса, хотя и ненавидит его люто, до потери здравого смысла. Судите сами. «В жизни Маркса все фальшиво: 30 лет подстрекательства из читальни Британского музея, удобная жизнь за счет Энгельса, расчетливая женитьба на аристократке, богатые похорпоны с надгробными речами; типичный мещанин, завистливо воюющий против „буржуазии"».18
Такая склочная характеристика одного из крупнейших все-таки европейских мыслителей говорит, конечно, больше о Нарочницкой, чем о Марксе: уж слишком она напоминает о крыловских слоне и моське. Но я-то стараюсь убедить читателя совсем в другом. В том, что решающую роль в конкуренции идей в авторитарных государствах играют лидеры и элиты, а вовсе не массы. К массам «спускаются» лишь те идеи, что победили своих соперниц в сознании злит. Грамши, как помнит читатель, называл их «гегемонами», другие авторы «национальными мифами», в России прижилось название «Национальная идея».
Принцип Ламздорфа
И поэтому утверждаю я здесь лишь, что, добившись однажды статуса «гегемона», такая национальная идея продолжает работать в истории страны, как видели мы хоть на примере доктрины Брежнева, на протяжении десятилетий, порою столетий. И не только, конечно, в России. Наполеоновский комплекс — один пример такой автономной работы «идеи-гегемона», исламский (и православный) фундаментализм — другой. В интересующий же нас период — в постниколаевской России — функционировала в этом качестве идея славянского «дополнения» империи как обязательного условия её мирового величия (или попросту Славянская идея). Так случилось, что именно зта идея оказалась как оптимальной формой её наполеоновского комплекса в 1850-е, так и главным последствием николаевского царствования, его идейным, если угодно, завещанием России.
Глава седьмая Национальная идея
Это станет совершенно очевидно, если мы начнем с конца. Накануне мировой войны, которой суждено было похоронить российскую монархию, Славянская идея умирала, казалось, своей смертью. Нет слов, Чаадаев ошибся, полагая в 1854 году, что недалеко то время, когда в России снова научатся «любить отечество по примеру Петра Великого, Екатерины и Александра».[30] Но ошибся и Погодин. Два поколения спустя мало кто в России верил, что «союзники наши в Европе,и единственные, и надежные, и могущественные, — славяне».20 Освобожденные из турецкого плена славянские народы «не проявили, — говоря словами Бисмарка, — никакой склонности принять царя в качестве преемника султана».21
Первой отвернулась от России Сербия, заключив в 1881 году 15-летнее военное соглашение с Австро-Венгрией, которая, как мы помним, была для Погодина «бельмом на нашем глазу»22 За Сербией потянулась Болгария, избрав на престол вовсе не русского великого князя, как мечтал Погодин, а германского принца (более того, болгарская делегация объехала в середине 1880-х все европейские столицы в поисках поддержки своей независимости именно от России). «Измена Болгарии» стала в те годы почти идиомой в словаре русских националистов. Короче говоря, как подводил итоги этого первого этапа реализации «Славянской идеи» замечательный современный исследователь российско-балканских отношений С.А. Романенко, «на период 1880-1890-х приходится падение до низшей точки отношений России с двумя славянскими православными государствами, которые только что благодаря ей обрели свободу... В результате Россия практически лишилась плодов своих побед, а Австро-Венгрия, ставшая её главным соперником в Юго-Восточной Европе, стала покровительницей и Сербии и Болгарии».23 Вот вам и «союзники единственные, надежные...»
Казалось бы, более убедительный провал Славянской идеи немыслимо себе и представить. Странным образом, однако, она продолжала жить — вопреки реальности. Отношения с Сербией изменились лишь в начале XX века, когда в результате государственного переворота в Белграде 28-29 мая 1903 года были убиты король Александр Обренович и королева Драга. С Болгарией отношения так и не поправились, и она вступила в мировую войну на стороне Австро-Венгрии.
Новый сербский король Петр Карагеоргиевич пришел к власти, однако, с собственной национальной идеей. И состояла она вовсе
М.П. Погодин. Историко-политические письма и записки, М., 1874, с. 259.
О. Бисмарк. Воспоминания, М.-Минск, 2001, с. 293.
М.П. Погодин. Цит. соч., с. 117.
СЛ. Романенко. Югославия, Россия и «славянская идея», М., 2002, с. 35.
не в создании Славянского союза под эгидой России, как планировал Погодин, но в воссоединении всех земель, на которых проживали сербы. Одним.словом, короля Петра, как впоследствие Слободана Милошевича, заботили отнюдь не «Петербург в Константинополе» и не православный реванш, но интересы «великой Сербии», как понимала их новая белградская элита. Россия, однако, меньше всего была заинтересована в имперских притязаниях вновь обретенной союзницы. Напротив, как формулировал в 1890-х принцип российской политики будущий министр иност- ранных дел В.Н. Ламздорф,
«для нас всегда выгодно, чтобы но Болконском полуострове были лишь небольшие государство, достаточно слабые, чтобы нуждаться в нашем покровительстве, в то время как всякое государство более значительное и независимое стало бы нашим врагом».2*1 Это постоянное опасение, как бы братья-славяне не стали нашими злейшими врагами, знакомо читателю еще по письмам Погодина. Единственный раз изменила Россия принципу Ламздорфа, конечно, при Горчакове после русско-турецкой войны 1877 года, когда — в нарушение секретного договора с Австро-Венгрией — попыталась создать «великую Болгарию», простиравшуюся на половину Балкан. Тогда на Берлинском конгрессе предостерегла Горчакова от очередной грубой ошибки Европа.
Мы увидим в заключительной книге трилогии, какую истерику закатила по этому поводу московская пресса. И по сей день Берлинский конгресс фигурирует в летописях русского национализма как пункт № i обвинительного заключения против «предательской» Европы. Между тем, имея в виду отношения России с Болгарией в последующие десятилетия, Европа оказала ей тогда огромную услугу. Принцип Ламздорфа исчерпывающе объяснил нам, до какой степени противоречило интересам России образование на Балканах такого «значительного и независимого» врага. Ссылаюсь я здесь на этот эпизод лишь как на ярчайший пример могущества «идеи-гегемона». Мало того, что действовал он в этом слу- · чае совершенно независимо от интересов страны, он еще полностью им противоречил. И все-таки победил.
Торжество Славянской
идеи Конечно, реальность — и поведение Сербии — работали против него. Разгромив в ходе первой балканской войны 1912 года в союзе с Болгарией Турцию, белградская элита задумала — на этот раз вместе с Грецией — разделить Албанию. Последнему министру иностранных дел императорской России Сергею Сазонову «пришлось, — по его словам, — просить сербское правительство не затруднять нам взятую на себя роль защитника сербских интересов». Как жаловался он в своих воспоминаниях, ему «выпала неблагодарная задача предостеречь сербское правительство от излишних увлечений этим соблазнительным планом».25
Тогда мольбы Сазонова помогли, тем более, что к ним присоединила свой твердый голос Англия. Но уже в следующем году, когда Сербия организовала коалицию, включавшую даже её вчерашних заклятых врагов турок, чтобы напасть на Болгарию, не помогло даже личное обращение императора. Напрасно взывал он к её «ответственности перед славянством». Как вспоминал впоследствии ПЛ. Милюков, «ответ Сербии был таков, что его даже не решились напечатать».26