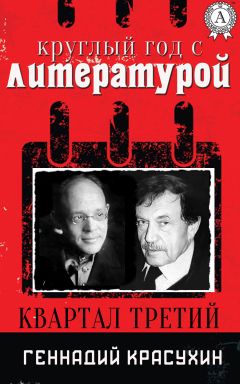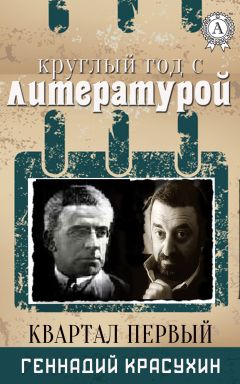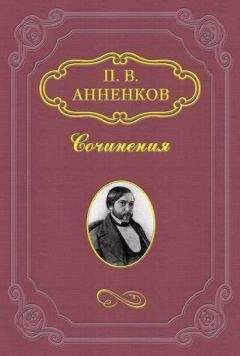Позже в «Новом мире» вспоминая Борисова, Солженицын писал: «Ошибку можно простить и миллионную. Обмана нельзя перенести и копеечного». Но не было обмана. Речь шла о том, что, не известив Солженицына, Борисов создал Издательский центр для выпуска его книг. Ещё Людмила Улицкая совершенно правильно написала в «Знамени», что, находясь в Америке, Солженицын не знал реалий 90-х, когда ежедневно вырастали в цене бумага, типографские услуги, когда промедлишь с покупкой необходимого реквизита для издания сегодня – завтра ты будешь наказан чудовищно вздутой ценой.
Но для меня особенно показательно, с какой жестокостью великий гуманист расправился со своим паладином. Сразу, не вдаваясь в подробности, не вникая в обстоятельства, выбросил из жизни.
Увы, это не метафора. Кажется, происшедшее подорвало жизненные силы Борисова. Возможно, что этим и объясняется его ранняя кончина. Тем более что после солженицынского изгнания Борисова последовало и изгнание Борисова из «Нового мира». Главный редактор Сергей Залыгин, отличившийся в советское время тем, что подписал вместе с другими против Солженицына гнусное письмо, теперь оказался проводником суровой воли классика, который переступил через Борисова, как некогда через Воротнянскую, у которой КГБ нашёл экземпляр «Ахипелага». Воротнянская повесилась, и Солженцын, кажется, был удовлетворён таким исходом дела. Борисов умер, и Солженицын вспомнил о копеечном обмане, которого простить покойнику ни в коем случае нельзя.
С Эдуардом Григорьевичем Бабаевым, родившимся 30 июля 1827 года, мы подружились ещё в шестидесятых. Одно время неразлучный с поэтом Евгением Винокуровым, он нередко приходил ко мне в «Литературную газету». К тому же и жили мы все трое почти рядом. Бабаев на самом Арбате, я в переулке Аксакова (теперь и до переименования – в Филипповском), а Винокуров – с другой стороны от Сивцева Вражка в печально-знаменитом писательском доме на улице Фурманова, которой тоже сейчас вернули старое название: Нащокинский переулок. Так что очень нередко мы втроём вместе гуляли по бульварам.
Работал Эдуард Бабаев тогда заместителем директора музея Толстого на Кропоткинской (ей после перестройки дали дореволюционное название: Пречистинка), был влюблен во Льва Николаевича, о ком, казалось, знал абсолютно всё, – во всяком случае, отвечал на любые вопросы и помогал отыскать цитату, когда к нему обращались за помощью. Он вообще очень много знал и был глубоким мыслителем, хотя не оставил философских трудов. Зато писал стихи и обаятельные детские книжки. Одну из них – «Чья это собака?» – у нас в семье очень любили, её много раз перечитывал сын, будучи младшим школьником. Когда у нас появилась собака, мы вспомнили эту волшебную книгу.
Потом Эдик перешёл в Московский университет, где стал любимцем студентов журфака. При его лекторском таланте, обширных знаниях и человеческой мягкости – иначе быть не могло. Когда я решил собрать свои довольно многочисленные работы по «Евгению Онегину» и защитить по ним диссертацию, Бабаев согласился быть у меня оппонентом. Мне это было очень важно в моральном отношении, потому что кроме человеческой теплоты и доброты Эдик был невероятно принципиален, когда дело шло о литературе, и, убеждён, он никогда не согласился бы оппонировать, если б диссертация ему не понравилась.
Он вызывался быть моим оппонентом и по докторской, но правила ВАКа не допускали, чтобы по обеим диссертациям в оппонентах числился один человек. В это время мы с ним крепко подружились. Я стал главным редактором «Литературы» – еженедельного приложения к газете «Первое сентября», и он часто украшал моё приложение своими занимательными литературоведческими статьями.
На праздновании пятилетия приложения в Центральном доме литераторов он выступил и рассказал, как в эвакуации в Средней Азии они подростками ходили по городу со своим другом – с будущим известным поэтом Валентином Берестовым и мечтали, чтобы когда-нибудь стала выходить газета занимательного литературоведения. Школьники любили книжки Перельмана «Занимательную физику», «Занимательную математику», а ничего подобного в гуманитарных науках не было. «У хорошей мечты, – закончил Бабаев, – есть такое свойство: иногда она сбывается».
Он пришёл ко мне в редакцию весной. Я хорошо помню, какой это был день недели – четверг. Он прочитал в наборной полосе свою статью о гоголевском капитане Копейкине, принёс мне новую – об «Эоловой арфе» В.Жуковского, а потом мы с ним гуляли по Маросейке, обсуждая предлагаемую им серию статей по занимательному литературоведению. Я проводил его до метро «Китай-город». А в субботу мне позвонила его жена Майя Михайловна и сказала, что ночью 11 марта 1995 года Эдуард Григорьевич умер от сердечного приступа…
Это был удивительно мягкий, доброжелательный человек. И при этом невероятно принципиальный. Многие удивлялись: как мог Эдик пожать руку «нерукопожатному» да ещё на глазах у всех, для чего он слушает излияния такого-то, которому устроил обструкцию почти весь дом творчества. Но Эдик не считал для себя возможным оскорблять людей, пусть даже ему несимпатичных.
Зато многие ли имеют в своём активе такой факт собственной биографии, о котором сейчас расскажу.
Эдик жил в Ташкенте. Его и жившего там же в эвакуации Валентина Берестова любили и опекали Корней Иванович Чуковский и Анна Андреевна Ахматова.
Бабаев мечтал об университете, но сумел у себя в Ташкенте поступить в транспортный институт. Потом после долгих мытарств перевёлся в Ташкентский университет. Сперва на физфак, а после окончания сессии – на филфак. Эдик был счастлив: сбылась его мечта.
Но на дворе стоял 1946 год. Были напечатаны знаменитое постановление ЦК о ленинградских журналах и доклад Жданова, где он хамски обрушился на Ахматову и Зощенко.
Зная о былой дружбе Бабаева с Ахматовой, партком приказал ему выступить на собрании, рассказать о том тлетворном влиянии, которое оказывает поэзия Ахматовой на молодёжь.
«Подумай, – сказали ему, не сомневаясь, что он выступит, – у тебя ещё жизнь впереди».
Подумав, Эдик написал заявление об увольнении с филологического, куда так стремился!
Чудесный был человек. Недаром один из его студентов, Александр Терехов, написал о нём повесть. Высокой души был человек. И мудрый. О чём говорят хотя бы вот эти строки за его стихотворения: «Прощай»:
Вы замечали? Если ненадолго
Мы расстаемся, то легко и смело
Мы говорим друг другу: «Ну, прощай!».
Но если нам разлука путь укажет
На много лет, мы говорим: «Всего!
До скорой встречи! Напишу, конечно!».
На письмах даты.
Может быть, вся жизнь.
И только тем, кого мы никогда
Уже не встретим в этой жизни (странно,
Что мы всегда угадываем это),
Мы не решаемся сказать: «Прощай!».
Вот так мы покидаем город детства.
Вернёмся – нас никто не узнаёт.
И мы глядим с таинственной улыбкой
На тех, кто и не знал нас никогда…
Так пролетают годы. Постепенно
Мы учимся искусству узнавать
Самих себя. И в том, что с нами было,
И в том, что больше не вернётся.
* * *
Владимир Георгиевич Маранцман, родившийся 30 июля 1932 года, считался крупным учёным-педагогом, членом Российской академии образования. Заведовал кафедрой методики преподавания русской языка и литературы в ленинградском Герценовском пединституте. Вместе со своими коллегами по институту выпустил много школьных учебников.
Его основной тезис: никакое интерпретирование художественного текста не может претендовать на истину в последней инстанции, любая однозначность интерпретации свидетельствует о примитивности концепции автора.
Всё это, быть может, и верно. Я знаю нескольких учителей, бывших учеников Маранцмана, скончавшегося 5 января 2007 года, ставших очень толковыми педагогами. Так что, возможно, что и воспитатель он был интересный.
Но, как пушкинисту, мне не повезло. Трактовки Маранцмана пушкинского текста примитивны, а порой и вульгарно социологичны. Здесь Маранцман ничем не отличается от других учёных филологов, навсегда усвоивших, что Пушкин через всю жизнь пронёс якобы близкие ему декабристские идеи и старавшихся втемяшить в сознание читателя образ Пушкина-революционера.
* * *
Почему-то, когда я учился в МГУ, ходила байка о родстве нашего профессора, заведующего кафедрой литературоведения Геннадия Николаевича Поспелова с партийным функционером, академиком Петром Николаевичем Поспеловым. Говорили, что они родные братья, и что благодаря этому Геннадий Николаевич, ученик Валерьяна Фёдоровича Переверзева, не предавший своего учителя, не был арестован, когда громили и уничтожали «переверзевщину» в филологической науке.