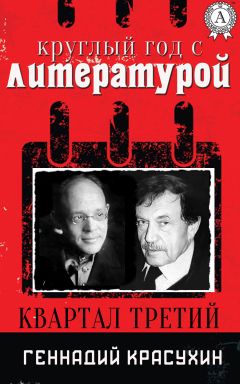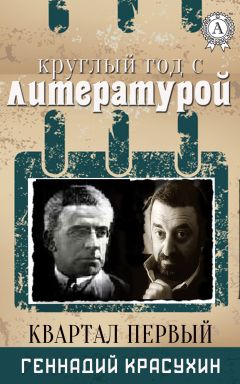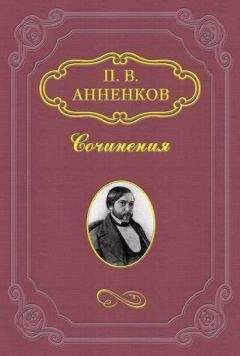Нет, всё оказалось пустой выдумкой. Геннадий Николаевич, родившийся 30 июля 1899 года, не имел родственных связей с партийным академиком. И потому, когда его в 1930-м уволили с преподавательской и исследовательской работы как последователя Переверзева, никто за него не заступался. Постепенно он вновь возобновил преподавание. Преподавал на рабфаке имени М.И. Калинина, доценствовал (1932-1934) в редакционно-издательском институте. А потом перешёл в МИФЛИ, где стал профессором. В 1941-м ИФЛИ слили с МГУ. Так и оказался в университете Поспелов, который позже создал в нём кафедру литературоведения.
В университете я прочитал его книги «О природе искусства», и «Историю русской литературы XIX века. 40-60». Прочитал с интересом. Хотя на семинары к нему не ходил и лекций его не слушал. Да и мало кто слышал Поспелова. Он в мои годы никаких курсов, кажется, не читал. От его кафедры выступал в основном молодой доцент Иван Фёдорович Волков, который сделает хорошую карьеру в будущем: станет и доктором, и профессором, и деканом и перехватит у Поспелова кафедру.
А Геннадий Николаевич показывался у нас редко. Помню, на каком-то собрании после смещения с декана Романа Самарина выступил Поспелов с рассказом о Переверзеве. Того реабилитировали, но это не рекламировали. И Поспелов не столько говорил об учёном Переверзеве, сколько о Переверзеве-человеке. Надо отдать ему должное. Рассказывал он хорошо, любовно, даже приложил четыре пальца ко лбу. А потом отвёл их, вытянул вперёд, показывая любимый жест Переверзева, означающий, что учёный делится с тобой всем, что знает.
Редко показывался Геннадий Николаевич. Но запомнился большинству добрым, интеллигентным человеком.
Значительно позже я прочитал в тамиздате завещание академика Варги «Российский путь перехода к социализму и его результаты».
Ещё позже я узнал, что читал мистификацию. Что эта резко критикующая экономическую систему СССР работа на самом деле написана Геннадием Николаевичем Поспеловым, скончавшимся 12 апреля 1992 года.
* * *
В редакции «Медного Всадника», представленного Пушкиным на цензуру царю, мы найдём едкую иронию в адрес Дмитрия Ивановича Хвостова:
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов,-
ибо один только зачин его «бессмертных стихов» о наводнении, написанных по горячим следам событий, уже выдаёт честолюбивую надежду прославить своё имя за счёт животрепещущей темы:
О, златострунная деяний знатных Лира!
Воспламеня певца безвестного средь Мира,
Гласи из уст его правдивую ты речь.
И не только напыщенностью отмечены эти стихи Хвостова. Они полуграмотны. Оцените его обращение к лире с призывом «гласить из уст певца»!
Дмитрий Иванович Хвостов родился 30 июля 1757 года. В принципе он достиг больших степеней и наград. Был почётным членом Императорской академии наук и действительным членом Императорской российской академии. Женатый на племяннице полководца Суворова, Хвостов одно время был обер-прокурором Святейшего Синода. А на сестре Хвостова был женат военный министр Алексей Горчаков, прославившийся своими балами, которые он давал после войны и на которых неизменно присутствовал и Дмитрий Иванович.
Служебная карьера Хвостова шла по нарастающей и дошла до своего пика, когда он был пожалован в действительные статские советники.
Что же до творчества, то он был настоящим графоманом. То есть писал много во всех жанрах и по любому поводу. Кому из сильных мира его он не поднес оду? Кажется, никого не пропустил: Аракчееву, Паскевичу, даже королю прусскому, от которого получил награду. Да и графство своё он заработал, польстив в стихах королю сардинскому. Тот в ответ возвёл Хвостова в графское достоинство своего королевства. А русский император дал своё соизволение на принятие этого достоинства и пользование им в России.
Над хвостовским творчеством потешались не только поэты пушкинского круга. Даже при вступлении Хвостова в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств его рекомендатель Дашков произнёс такую речь, превознося рекомендуемого выше Пиндара, Горация, Лафонтена, Буало, что все покатились со смеху. Приняв Хвостова, общество исключило Дашкова за неуместную иронию.
Надо сказать, что ироническому отношению к своим вещам способствовал и сам Хвостов, скупавший в больших количествах собственные книги и поднося их в дар официальным учреждениям. Так академия наук получила от него 900 экземпляров его пьесы «Андромаха», которая вообще пылилась на складе книгоиздателя.
Вместе с тем, был Хвостов, скончавшийся 2 ноября 1835 года, человеком незлобивым, добрым, даже щедрым. Много тратил средств на поддержание журналов, в которых помещал свои стихи. За ним знали слабость: он воздавал сторицей за похвалу любому своему произведению. И некоторые издатели (Шаликов, например, или Борис Фёдоров) этим умело пользовались.
«А всё-таки он помог множеству просителей, засыпавших его письмами, а зла никому не сделал, – написал о нём Евгений Евтушенко. – И несколько новых слов и оборотов привил не такому уж податливому русскому языку.
Что же нам делать? Жалеть его и любить, насколько сможем. Вот и Пушкин, услышав о его смерти (слух, правда, оказался ложным), вздохнул в письме П.А. Плетневу: «Наш Хвостов умер…»
* * *
Мне очень понравилась книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского». Я, который в своё время страшно обрадовался, прочитав, что Пастернак ценит только раннего Маяковского и «Во весь голос», обрадовался и ещё одному своему союзнику. С большинством друзей я не сходился во вкусах: им Маяковский нравился.
Поэтому я нисколько не удивился, что вышедшая на Западе и там премированная книга Карабчиевского, не вызвала энтузиазма при издании у нас: полувековая пропаганда своё дело сделала: даже дрянные стихи Маяковского благодаря мастерам художественного слова, постоянно их читавшим, внедрились в сознание как настоящая поэзия.
Ясно, что книгу Карабчиевского у нас обстреляли.
А мне она настолько понравилась, что я уговорил Юрия Аркадьевича Карабчиевского вытащить из неё кусочек, посвящённый юмору, и поместил его в газету, которую только что возглавил. Она была рассчитана на учителей, называлась «Литература». Заметочку «Юмор» я напечатал под рубрикой «Словарь»:
«Юмор – явление всеобъемлющее, это не окраска и не подсветка, это способ видения, способ жизни […] Человек, объясняющий смысл анекдота, нелеп не потому, что говорит очевидное, а, напротив, потому, что пытается осуществить невозможное. Но ни анекдот, даже самый глубокий – а бывают очень глубокие, – ни острота, ни шутка, ни комическая ситуация, ни вообще всё комическое вместе взятое – не заполнят и не отразят юмора, разве только одну из его сторон.
В словарях литературоведческих терминов на это слово даже нет отдельной статьи, а пишут: ЮМОР – см. КОМИЧЕСКОЕ. Не смотри «комическое», читатель, смотри «трагическое»! Потому что подлинный юмор всегда трагедиен в своей основе. Нет, я имею в виду не мрачные шутки, не чёрный юмор и не юмор висельников. Настоящий юмор всегда исходит из глубокого чувства трагизма жизни, из её потрясающей, головокружительной серьёзности.
Возьмём тот же анекдот как ближайший пример. Чем измеряется глубина анекдота? Тем количеством трагизма, которое он в себе содержит. Лучшие темы – тюрьма, болезнь или смерть, то есть такие, трагизм которых заведомо и не нуждается в подтверждении. И так же самый глубокий юмор свойствен народам самой страшной судьбы: евреям, полякам, русским…
Юмор и поэтический образ – вот два единственных средства, два способа видения, мышления, чувствования, с помощью которых мы можем объять необъятное, постичь непостижимое, овладеть ускользающим. И бывает так, но это редчайший случай, когда они объединяются в одном человеке, – тогда возникает величайшая концентрация поэтической энергии, любой своей частицей обнимающая весь мир. Тогда это – Шекспир, Пушкин, Мандельштам…»
Вот такие заметки я предлагал учителям в газетном словаре литературоведческих терминов. Карабчиевский был в восторге, прочитав гранки. Мы с ним набросали с десяток тем для словаря, который он собрался осветить. Я с нетерпением ждал его заметок. Не дождался. Через короткое время пришло сообщение, что Юрий Аркадьевич Карабчиевский покончил жизнь самоубийством 30 июля 1992 года. Ту свою заметку напечатанной в газете он не увидел…
Конечно, мне, беседовавшему с ним за несколько дней до трагедии, когда ничто её не предвещало, случившееся показалось ужасной нелепостью. Но чужая душа – потёмки. Да и как говорил поэт, кто смеет молвить «до свиданья» чрез бездну двух или трёх дней!