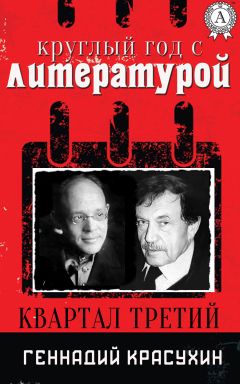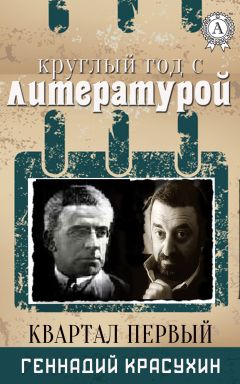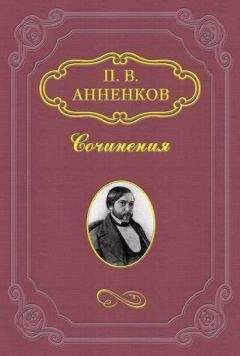Последняя цитата, которую приводит Блок – пушкинская. Так Пушкин по рассказу Гоголя ответил на стихи Державина: «За слова меня пусть гложет, За дела сатирик чтит». «Державин не совсем прав, – передаёт Гоголь Пушкина: – слова поэта уже суть дела его». «Пушкин прав», – заключил свой рассказ Гоголь.
Жаль, если кому-то этот спор покажется схоластическим. По Пушкину, Гоголю и Блоку слово поэта таит в себе похищенные у стихии и приведённые в гармонию звуки. Потому оно и дело поэта. Слова поэта образуют гармонию, живут в ней, ею руководствуются.
Помните у Мандельштама: «Останься пеной Афродита, И слово в музыку вернись…». Но так будет только в том случае, если «обретут мои уста Первоначальную немоту», о чём мечтает поэт. Не хочет приводить в гармонию -«музыку» звуки, которые пребывают в родной безначальной стихии. Не хочет творить. Хочет молчать. О чём и говорит название его стихотворения «Silentium», то есть «Молчание».
А Блок разворачивает перед нами творческую методу Пушкина во всём её многоцветье. Мы помним, что на поэта (Пушкина) возложено три дела.
«Первое дело, которого требует от поэта его служение, – бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных вола,
В широкошумные дубровы.
Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу», к безначальной стихии, катящей звуковые волны».
«Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу, – констатирует Блок. – Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это – область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу».
И вот «наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью».
Ну, напоминать о том, что Пушкин и Блок имели в виду под «чернью» не безграмотное простонародье вряд ли стоит. Чернь – это вечно мешающая поэту посредница между ним и читателем. Она вводит цензуру, она пытается перетолковывать слова поэта в нужном ей духе.
Итак, в чём же секреты пушкинского мастерства? Прежде всего, в том, чтобы, уметь отрешиться от суетных дел, ради того чтобы расслышать стихийные ритмы, готовые к преобразованию в гармонию. Реформируя их в гармонию, оттачивая их гармоническое совершенство, поэт вносит гармонию в мир, где чаще всего встречает сопротивление черни – чиновничества, как совершенно очевидно именует её Блок: «Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем её объёме уже произведено без них».
Ну, и почему я считаю такую трактовку пушкинского дела лучшей в русской пушкинистике? А потому что вдумывание в три возложенных на Пушкина дела универсально для разбора любого его произведения. Именно следование в данном случае за Блоком приведёт нас к простым и очевидным истинам, о которых он говорит: «Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».
Причём обратите внимание: Блок даже не упомянул «Пророка» – пушкинского стихотворения, чей герой, с лёгкой руки Владимира Соловьёва, был объявлен «идеальным образом истинного поэта и его сущности и высшем призвании». Блок не упомянул «Пророка», потому что операция, описанная Пушкиным, не оставляет сомнения в том, что «шестикрылый Серафим» заменяет герою стихотворения человеческие органы на внечеловеческие.
Ну, а, лишившись «трепетного» человеческого сердца, получив «жало мудрыя змеи» взамен «грешного» («и празднословного и лукавого») человеческого языка, пушкинский герой утрачивает те самые связи с человечеством, без которых не может не обойтись ни один поэт! Да и миссия его – говорить не от себя, а от того, чьей волей он исполнился! Тогда как Пушкин многажды подчёркивал, что всегда говорит от себя, пишет о себе и для себя!
Пушкин не признавал учительство, нравоучение миссией искусства, потому и проигрывают с его анализом те, кто извлекает из его творчества так называемые «уроки». Помню, как на одной из защит диссертаций вызвал возмущение в зале своим вопросом, обращённым к соискателю: с чего он взял, что Пушкин наделил персонажа собственной чертой? Побывал на спиритическом сеансе?
Боже, что тут началось! Председательствующий уже хотел объявить моё поведение хулиганскими. И тогда я зачитал самого Пушкина, о том, что, по его мнению, нужно драматическому писателю. «Философию, – начинает перечислять Пушкин, – бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода». Что же такое «бесстрастие» как нежелание драматурга вмешиваться в повествование на чьей угодно стороне? И что значит: никакого предрассудка любимой мысли? А то и значит, что не должен драматург сам себе подыгрывать. С чем непременно должен сообразовываться драматический писатель в своём произведении? Разумеется, с той философией, которая отличала реконструированную им эпоху, и с той историей, преподнесённой им не в легендарной, а в государственной упаковке, которая, кстати, и изгоняет предрассудок твоей любимой мысли. Ну, а что до догадливости, живости воображения, то они и помогут внести драматургу гармонию в мир. Вот какие законы признавал над собой драматический писатель Пушкин, патетически называя их: «Свобода» и даже особо подчёркивая это название!
Увы, по моему мнению, большинство прошлых и нынешних прочтений Пушкина восходит именно к «Пророку». Пушкина делают кем угодно: философом, социологом, историком, даже (особенно в последнее время) религиозным проповедником. Но только не поэтом, чьи художественные тексты призваны пробуждать в человеческих душах чувства добрые. К сожалению, верное прочтение Пушкина Блоком оказалось неуслышанным. Или скажем осторожней: прослушанным вполуха!
А между тем, выступая перед смертью с речью о Пушкине, Блок говорил и о том, к чему долго шёл своём творчестве, что преодолевал порой мучительно. Вот какие вещи ему приходилось преодолевать:
Ты оденешь меня в серебро,
И когда я умру,
Выйдет месяц – небесный Пьеро,
Встанет красный паяц на юру.
Мёртвый месяц беспомощно нем,
Никому ничего не открыл.
Только спросит подругу – зачем
Я когда-то её полюбил?
В этот яростный сон наяву
Опрокинусь я мёртвым лицом.
И паяц испугает сову,
Загремев под горой бубенцом…
Знаю – сморщенный лик его стар
И бесстыден в земной наготе.
Но зловещий восходит угар –
К небесам, к высоте, к чистоте.
Сколько нужно было приложить усилий, чтобы высвободиться от символистской чепухи, чтобы бросить играть в поэзию, чтобы, скончавшись 7 августа 1921 года (родился 28 ноября 1880-го), предъявить миру внушительный патент на бессмертие, которое вечно несёт в себе живая человеческая поэзия:
Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза…
И мгновенно житейское канет,
Словно в тёмную пропасть без дна…
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина…
И напев заглушённый и юный
В затаённой затронет тиши
Усыплённые жизнию струны
Напряжённой, как арфа, души.
* * *
Константин Константинович Случевский, родившийся 7 августа 1837 года, поначалу заинтересовал своими стихами Тургенева и особенно Аполлона Григорьева, который написал восторженную статью, предрекая новому поэту большое будущее. Однако критики так называемого демократического лагеря Добролюбов. Курочкин, Минаев отнеслись к стихам Случевского куда прохладней. Достаточно сказать, что, прочитав критиков, Случевский бросил службу в Академии Генерального штаба, подал в отставку и уехал за границу.