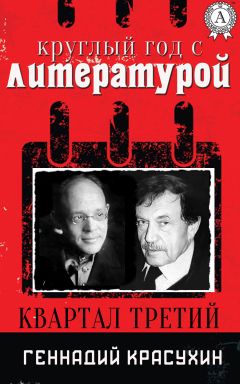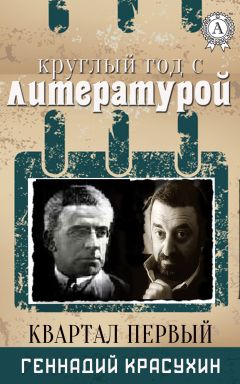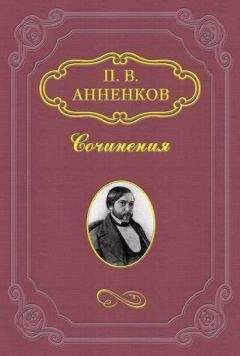Любопытно, что несмотря на то, что он пишет на русском, в фильме «Всадник без головы», снятом в 1973 году Владимиром Вайнштоком, звучат песни, написанные по-испански Павлом Грушко. Музыку к ним сочинил Никита Богословский.
Вот стихотворение Грушко, посвящённое очень достойному человеку:
Как-то так получается,
что, умерев вещественно,
иной человек не кончается.
В общем, это естественно:
не покидает то место,
где был, – и вы уступаете.
Вот так становится тесно
от обитающих в памяти.
Жилось ему неуживчиво
с теми, кто жил расчётливо,
кто проживал расплывчато,
а умер весьма отчётливо.
Он – пошёл по столетьям,
после смерти – да в гору!
Не знал, что кончит бессмертьем.
Кто это знал в ту пору?
* * *
Мой друг. В конце жизни уехал в США, где жила его сестра, к которой ещё прежде уехал его сын Лёня.
Лёва Левицкий, написавший книгу о Паустовском, который его любил. Лев Абелевич Левицкий, рождённый 15 августа 1929 года в Каунасе, в семье, где говорили только на идиш и на литовском.
Родители успели посадить детей в уходящий на восток военный эшелон. Сами сесть в поезд они не смогли. На третьи сутки голодный мальчик спрыгнул с поезда и побежал в магазин в надежде раздобыть для себя и сестры хлеба. Но, прибежав назад, увидел хвост ушедшего поезда.
Не говорящего по-русски мальчика накормили женщины и отвели его в милицию. Там его направили в детский дом Заречья. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, не встреть он в детдоме работающую там Тамару Казимировну Трифонову, известного критика и литературоведа. У неё были и свои дети, но она не делала разницы между ними и приёмышем, которого полюбила, став его второй матерью.
Родителей его, скорее всего, уничтожили немцы, от которых им не удалось скрыться.
А сестра доехала до конечной станции, которая оказалась недалеко от границы. Уму непостижимо, как она сумела не просто перейти границу, но в конечном счёте оказаться в США, где вышла замуж и все годы неустанно разыскивала брата.
Лёва вместе с Тамарой Казимировной и своими названными братьями и сёстрами сперва жил в Ленинграде, окончил с отличием университет. Переехал в Москву. Поступил в аспирантуру Литературного института, где и защитил диссертацию по Паустовскому, у которого одно время работал литературным секретарём.
Долгие годы Лёва работал внештатным сотрудником «Нового мира», знал всех выдающихся сотрудников Александра Трифоновича Твардовского, как и всех выдающихся его авторов.
Вёл себя смело. Подписывал коллективные письма в защиту диссидентов. Даже был автором некоторых из них.
А потом пришла, наконец, долгожданная весточка от сестры. Она, обеспеченный человек, звала всех Левицких к себе. Лёня, сын, как я уже сказал, с радостью воспользовался приглашением. А Лёва тянул. Побывал в Америке, увиделся с сестрой, но вернулся. Он был хорошим другом многих, и не хотел терять друзей.
Но заболел. Врачи нашли, что такую онкологическую операцию можно сделать только за границей. И Лёва уехал в Лос-Анджелес к сестре. Увы, там и скончался 13 мая 2005 года.
* * *
Я его застал. Для меня увидеть живого Ивана Михайловича Гронского, который работал ещё в двадцатых в «Известиях», а потом главным редактором «Красной нивы» и «Нового мира», было чудом. Ведь Иван Михайлович являлся председателем оргкомитета по подготовке Первого съезда Советских писателей.
То, что он потом исчез, было понятно и привычно. Не так уж много выжило журналистов первого большевистского призыва. Ивана Михайловича арестовали в 1938 году и выпустили через 16 лет.
К прежней журналистской должности не вернули. Он работал младшим научным сотрудником Института мировой литературы.
Вот в это время он и пришёл как-то в «Литгазету». По приглашению бывшего зека, заведующего отделом писем Залмана Румера. Гронский выступал недолго. С большей охотой рассказывал о своей юности, о том, как воевал в Первую мировую, получил Георгиевский крест за храбрость, о том, как стал большевиком, а потом – руководящим большевиком, – с большей охотой он вспоминал об этом, чем о лагере.
Затронув лагерную тему, он насторожил многих, сказав, что многие политические сидели за дело – за оппозиции, а теперь прикидываются невинными.
Ещё больше он разочаровал всех, когда сидел с нами в кабинете Румера, слегка выпивал и говорил, что лагерь его не переубедил и что Сталин не такой уж злодей, как его изображают.
Поэтому я не удивился, прочитав в 2008 году в «Звезде» в подготовленных родственниками его воспоминаниях письмо жене из ссылки:
«[…] Ты спрашиваешь, откуда берёт начало моя надежда на скорое свидание. Она базируется на моей глубокой вере в разум партии. То, что я не виновен, – это, мне кажется, известно и ЦК и органам безопасности. Разбираться в наших делах партия не могла. Для этого не было условий. Сейчас эти условия налицо. Во-первых, победа в войне; во-вторых, могущество государства, являющегося гарантией нашей безопасности; в-третьих, сплочённость народа как результат правильной политики партии; в-четвёртых, колоссальный послевоенный подъём народного хозяйства, обеспечивающий нарастание благосостояния народа и укрепление, и умножение могущества страны. Поэтому сейчас партия может разобраться во всех делах людей, в своё время изолированных от общества, особенно в делах тех, чья виновность или совсем не была доказана, или является сомнительной. Вот эта вера в партию, не пропадавшая у меня ни на минуту, и даёт мне право говорить о том, что скоро мы с тобой увидимся».
Они увиделись скоро, это правда.
Но писать жене письмо, состоящее из клише советской пропаганды, надо было уметь.
Если б я с ним не встречался, я б не поверил в искренность этих строк. Но я верю.
Иван Михайлович умер 15 августа 1985 года. Родился 30 ноября 1894-го.
Говорят, что, несмотря на свою упёртость, он хлопотал за репрессированных писателей, вернул некоторым доброе имя. В частности, поэту Павлу Васильеву. Дай Бог, если это правда.
* * *
Владимира Борисовича Ломейко, работавшего в «Литературной газете», пожалуй, уважали больше, чем других его коллег. Это был международник высокого ранга. Никак не меньшего, чем работавшие у нас вместе с ним Игорь Беляев и Фёдор Бурлацкий, ставшие позже политическими обозревателями. Да и кто знает, останься в ту пору работать в газете Ломейко, быть может, его, а не Бурлацкого сделали бы главным редактором после смерти Воронова. Всё-таки был Владимир Ломейко зятем Громыко, другом и соавтором его сына, то есть имел мощных в то время покровителей. Особенно в Министерстве иностранных дел. В МИД Ломейко и ушёл, став через некоторое время послом СССР в ЮНЕСКО и оставшись потом там же послом России.
В 2001 году был он специальным посланником ООН по правам человека, советником Генерального секретаря ЮНЕСКО. И выступил на международной конференции в Германии, посвящённой проблемам его отечества. «Основная проблема России, – сказал Ломейко, – заключается в том, что там с давних времён традиционно попирается достоинство человека, которое для россиян является чисто абстрактным понятием. Поэтому многие люди сами себя не уважают».
Известно, конечно, как народная мудрость относится ко всяким там «если бы да кабы». А всё-таки получи «Литературная газета» в своё время главным редактором не самовлюблённого Бурлацкого, не корыстного Удальцова, а Ломейко с его понятиями о чести и достоинстве, глядишь, и не сидел бы сейчас в кресле главного редактора человек, который осуществил давнюю мечту Всеволода Кочетова или Владимира Ермилова – сделать газету трибуной не интеллигенции, а толпы. Им это не удалось, а Полякову без труда. Он вытравил ту атмосферу интеллигентности, которая проникала на её страницы несмотря на цензурные советские плотины. «Литгазета» стала крикливой и бесстыдной. А как иначе охарактеризовать подобострастие, с каким газета восхваляет своего главного редактора? Даже Кочетов, не отличавшийся скромностью и уж тем более совестливостью, не пропустил бы в своём издании заметку о себе, предпочёл бы прочитать её в других печатных органах. Поляков не так церемонен. В его газете приветствуется любая его публикация, одобряется любая его пьеса, поставленная в театре, умиляются любому фильму, снятому по его сценарию.
История, конечно, сослагательного наклонения не знает. Владимир Борисович не стал нашим редактором. Он умер 15 июня 2009 года (родился 27 ноября 1935-го). «А всё-таки жаль!» – как пел Булат Окуджава.
* * *
Вот это стихотворение Николай Васильевич Панченко напечатал одним из последних, хотя написал его давно: