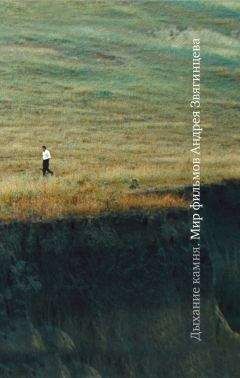Дублей много делаете?
В случае с Андреем – да. Он вводит актера в нужное состояние и добивается абсолютного иногда количеством. Но, например, с Костей Лавроненко этого можно не делать. Он иногда и с первого дубля находится там, где нужно, насколько я это понимаю. Ведь Андрей почти никогда не комментирует на площадке, почему мы сейчас делаем шестой или седьмой дубль. Мы просто его делаем, и все.
Вы полностью зависимы от воли режиссера?
Я не делаю и шага без режиссера. Если это какая-то техническая перестановка света или камеры, то она оговаривается заранее. Даже смена объектива не может происходить без предупреждения, потому что это вмешательство в процесс, которое влечет изменение мизансцены. И если мне почему-то кажется, что вот здесь нужен другой объектив, – я должен попытаться это объяснить. Но иногда это просто очевидно.
Режиссерам, как правило, близок какой-нибудь один жанр. А вам какой жанр близок?
Мне близок жанр кино. Хотя это могла бы быть комедия. Я принимал участие в работе над двумя комедиями, это был интересный опыт. Их трудно снимать, и, к сожалению, действительно хороших комедий почти не осталось на экранах.
Судя по всему, вы предпочитаете игровое кино документальному?
У меня не такой большой опыт в неигровом кино. Когда-то, в свое время, я ездил по всяким удаленным местам и снимал. По сути, это была хроника, без какой бы то ни было драматургии. События, которые там разворачивались, – их нужно было просто брать, потому что в них участвовали реальные люди, живущие на этой планете и не знающие о существовании железа, колеса и т. д. Неизвестно, есть ли они там все еще или их уже нет.
Мне недавно предложили снять фильм о балете. Но я совершенно далек от этой темы, и поэтому для начала решил сходить на репетицию. Это оказалось довольно жесткое зрелище. И, возможно, занятие, на котором я побывал, проходило мягче, чем обычно, так как они знали о моем присутствии. Все, что мы видим в балете – прекрасное, возвышенное, воздушное, – идет через ломку, физическую боль, через какие-то невероятные ежесекундные преодоления, когда тело не подчиняется, трудно или больно придать телу воздушную форму. В балете люди достигают этого через невероятные мучения. Мне кажется любопытной эта тема, и если под нее будет написан хороший сценарий, то я бы взялся за съемку фильма. И, скорее всего, он был бы черно-белым.
Для того чтобы снимать фильмы, оператору так много всего нужно знать. Время бежит, технологии стремительно меняются, как вы за ними успеваете?
Не надо никуда успевать и попусту суетиться. Конечно, есть новые цифровые технологии, все о них знают, и тем не менее пленка продается, на нее снимают фильмы. Вы можете пытаться перестроиться, а можете пойти купить пленку и снимать на нее. Многое зависит и от обстоятельств. Например, у вас мало денег и вы можете снять фильм только на бытовую, цифровую камеру, – другого варианта нет. Вы же не станете ждать, когда появятся деньги на пленку, а снимете все на цифру.
А как вы относитесь к цифровым технологиям: действительно ли пленке осталось жить недолго?
Местами цифровая матрица уже приблизилась к кинопленке, но процесс формирования изображения у нее совсем другой. Целлулоид ведет себя иначе. У пленки формирование изображения – процесс органический. И эта органика все еще убеждает многих режиссеров, операторов, в том числе и меня, делать выбор в пользу пленки. Хотя, когда мы снимали короткометражку для альманаха “Нью-Йорк, я люблю тебя”, мы пользовались новой цифровой камерой Genesis с кинооптикой Panavision. Меня поразили возможности этой камеры. Что же касается цифровой проекции, то она начинает одерживать верх над пленкой. Изображение у нее более стабильное, четкое, нет переходов частей, нет склеек. Думаю, скоро наступит время, когда пленка в кинотеатрах больше не понадобится.
После работы на Genesis не возникло желания перейти на эту камеру?
Этой камеры пока нет в России.
Тогда расскажите поподробнее о работе на этой камере, что происходит, когда вы отсняли материал?
После того как материал отснят и находится в компьютере, производится цветокоррекция, убираются какие-то нюансы. Затем смотрим все на экране, и если изображение вас устраивает, то с помощью системы Arrilaser его переносят на негатив, а после печатают на позитив. То есть у вас существуют еще две пленки, которые привносят в изображение свое зерно, свою органическую жизнь, и, может быть, это отчасти нивелирует жесткость цифрового изображения и приближает его к киноизображению. В фильме “Нью-Йорк…” есть ощущение кино.
Да. И еще в этом фильме присутствует маленькая видеокамера, которой пользуется мальчик. Он смотрит в монитор, перематывает изображение. И мы действительно видим кадры, снятые на эту видеокамеру?
То, что смотрит мальчик на камере – перемещения пары по пирсу, их общение, – мы снимали с большого монитора, чтобы детализация была хорошая. А та камера, которую мальчик держал в руках, вообще не была задействована. Эти кадры были сняты на другую цифровую камеру, простую, ручную, с чуть бóльшим разрешением. Потом полученное с этой камеры изображение мы вывели на хороший телевизионный монитор и сняли все это на Genesis. Так профессиональный телевизионный монитор мы выдали за маленький мониторчик камеры в руках мальчика.
Этот мальчик с камерой – главный герой фильма, – он же, по сути, будущий оператор. Какой бы вы дали совет ему как начинающему оператору-самоучке?
Я однажды уже отвечал на подобный вопрос, когда был во ВГИКе, и сейчас, пожалуй, повторюсь. Есть такая книжка, она была выпущена лет пять назад, называется “Новые операторы”. В ней собраны интервью европейских и американских кинооператоров. Среди них есть один оператор – Дариус Хонджи, который снимал “Ускользающую красоту” с Бертолуччи, “Семь” с Финчером, “Пляж” с Бойлом, работал с Алленом, с Полански, Ханеке и другими. Хонджи долго был моим кумиром. В этой книге он отвечает на подобный вопрос, а я повторю его слова: “Смотрите много кино, путешествуйте, держитесь подальше от школ”.
Андрей Звягинцев говорил, что счастлив с вами работать, так как у вас есть чему поучиться. А чему бы вы поучились у Андрея?
Для меня эти два мира, мир режиссера и мир оператора, они хоть и соприкасаются, но все же очень разные. В какой-то момент в процессе работы они становятся неким целым. И тем не менее мои обязанности в большей степени подчинены техническим аспектам, а профессия Андрея захватывает совершенно иные сферы. Он смотрит на те же вещи под другим углом и как бы изнутри. Иногда мне хочется посмотреть на все его глазами. У Андрея стоит поучиться вдумчивости, скрупулезности, отношению к деталям, умению слушать людей, его сопротивляемости обстоятельствам. Он идет со своим решением до конца и бескомпромиссен в отстаивании собственной позиции. Возможно, другой человек на его месте давно бы сдался. По тому, как он ведет себя в деле, я вижу, что он внутренне свободен, и никакие обстоятельства не способны переломить его волю. Наверное, поэтому у него все получается.
Беседовала Ольга Чижевская22 февраля 2010 года
Интервью с актером Константином Лавроненко
Ваш творческий путь начинался со школы-студии МХАТа, с мастерской Андрея Алексеевича Попова…
С первого года наш курс был разделен на две мастерские. Я попал в мастерскую, в которой обучение строилось не совсем так, как тогда было принято. Причем мы все хорошо это понимали, и нам это нравилось. Обычно первые полгода студенты делают какие-то общие упражнения на внимание, несложные этюды, наблюдения за животными и т. д. Мы же ставили японский спектакль, говорили на какой-то тарабарщине. Были и другие интересные эксперименты. Например, задание обыграть понятие “предательство” на материале цикла произведений Михаила Булгакова. Из любого произведения – из пьесы, рассказа или романа – мы выбирали какие-то отрывки, в которых существовал момент предательства. На протяжении года эти отрывки как-то обрабатывались, поправлялись, додумывались педагогами и в итоге соединялись в цельный спектакль. То есть мы уже не просто топали и хлопали вместе, а занимались интересными, вполне серьезными исследованиями. И это было здóрово. Даже было некое ощущение, что мы особенные. Это давало какую-то энергию.
Значит, ваши юношеские ожидания оправдались? Вы нашли себя в театральной деятельности?
Это сложный момент. Человек познает себя на протяжении всей жизни. Уже после того, как я окончил институт, попал в театр Райкина, познакомился с Владимиром Мирзоевым и вовлекся в безумно интересный для меня театральный поток, уже тогда появилось ощущение какой-то неустойчивости, какого-то подлога. Стали возникать вопросы о том, все ли я делаю правильно. Вот вроде бы все уже случилось, ты уже встал на путь, решил стать артистом (потому что артистом становятся не сразу, это долгий путь), но вдруг посыпались вопросы: “Что же это такое? Почему нет той радости, к которой ты шел?”