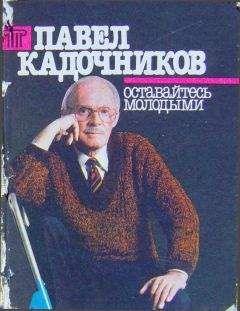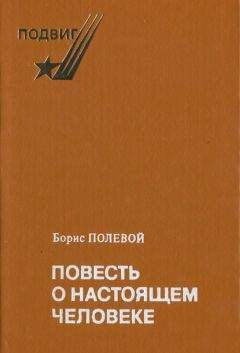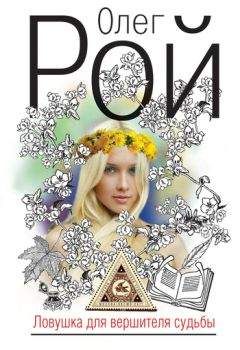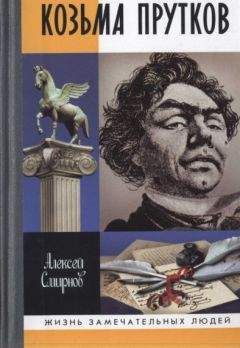После такой вспышки что-то доказывать дяде Сане было и бессмысленно, и рискованно. Пришлось мне все-таки уменьшить и габариты дома, и в конце концов расстаться с той «Волгой».
Как-то пригласил дядю Саню на рыбалку.
— Удочками будем ловить? — интересуется.
— И удочками, и сеткой, — отвечаю.
— Что значит «сеткой»? — сразу насторожился дядя.
— Разрешили ловить двадцатипятиметровой сеткой, — уточняю.
— Где разрешение?
— Да вы что, шутите, дядь Сапя?
— Никаких шуток! Где разрешение, спрашиваю?
— Вы случайно… не из рыбнадзора? — с улыбкой гляжу на него.
А он на полном серьезе:
— Я построже рыбнадзора. Покажи разрешение!
Пришлось идти за разрешением. Но и это не удовлетворило дядю Саню.
— А всем разрешили ловить сеткой или тебе одному? — спрашивает.
— Всем, — отвечаю.
— Хорошо, я сейчас спрошу у соседей.
И на рыбалку мы с дядей Саней отправились только после того, когда он окончательно убедился, что всем разрешили ловить сетью.
Если собирались с ним идти на лося, жена заранее меня спрашивала:
— А где лицензия?
— В кармане.
— Ты уж ее поближе положи, чтобы дяде Сане сразу показать. Ведь он и шагу с тобой не сделает, пока собственными глазами лицензию не прочтет.
И точно. Приходил дядя Саня и спрашивал:
— А где лицензия?
Посмотрит ее со всех сторон, повертит, проверит, есть ли печать и подпись. Только после этого брал ружье и соглашался идти со мной.
Особенно любил дядя Саня утиную охоту, когда можно было на утренней или вечерней зорьке посидеть у заводи. Но и здесь он оставался верен себе: пока сам не прочтет в «Ленинградской правде» или в «Вечернем Ленинграде», что охотничий сезон открыт для всех, ногой ни шагу ни на «утрянку», ни на «вечерянку».
Бывало, идем с ним по росистой траве между березами, а он все к птичьим голосам прислушивается. Особенно его завораживал соловей. В такой миг дядя Саня забывал об охоте: готов был соловьиные трели слушать без конца.
Случалось, что птицы не пели. Беспокойно искал он тогда слухом хоть единый голосок синицы или пеночки, а в ответ — ни звука. Терпеть он не мог мертвого леса. Дядя Саня хотел, чтобы в лесу всегда пела жизнь!.. И тогда он обращался ко мне почта с мольбой:
— Павлик, как это у тебя здорово получается… соловушкой… А ну-ка, выдай трель!..
Я с удовольствием «выдавал» и трель, и все другие соловьиные коленца. Пел и пеночкой, и скворцом, и синицей…
Дядя Саня с наслаждением слушал, лишь изредка прицокивая языком:
— Ай да соловушка!.. Вот это, я понимаю, артист!.. Истинный артист!..
И мне казалось, в моем искусстве дядя Саня ценил выше всего это умение подражать Природе. В эти минуты он становился необыкновенно добрым. Куда девались его горячность и охотничий азарт! Мы подходили к заросшему камышом и осокой берегу, но охота его уже не интересовала. Ружье оказывалось ненужным грузом, и он тут же сбрасывал его с плеча. Спокойно и сосредоточенно смотрел дядя Саня в эти минуты на заросшую кувшинками утиную заводь и, как на исповеди, спрашивал себя:
— А не обидел ли я по своей горячности кого-то в жизни на скаку? Не опустил ли острую шашку на чью-то безвинную голову? Не разрушил ли в пылу то, что надо было сохранить на века?..
Видя и слыша все это, зная хорошо своего дядю Саню, мог ли я не воплотить его характер в образе Поливанова, в глубоких раздумьях героя о судьбе Уткиной заводи, о прошлом, настоящем и будущем живущих на нашей земле?!
Я очень благодарен Даниилу Александровичу Гранину за то, что он написал такую правдивую книгу жизни. Благодарен и режиссеру-постановщику «Картины» Булату Багагутдиновичу Мансурову за то, что он дал мне возможность создать образ Поливанова таким, каким я его видел и вижу в жизни.
На солнышке обтаивали завалинки. С крыш свисали сосульки. Молча и шумно вздыхая, оседали сугробы. Но до весны еще было далеко, санные дороги крепки и хорошо накатаны. Самое время для ярмарки!
Мы гордились тем, что на ярмарку съезжались не куда-нибудь, а к нам, в Бикбарду. По накатанным дорогам спешили в наше село жители деревень Ватутина, Троегубовка, Искильда, Калмияра, Куеда… Приезжали даже из Перми, Осы и Сарапула.
Нам, мальчишкам, встречавшим обозы, идущие к базарной площади, казалось, что они приехали с другого конца земли. Шутка ли — триста километров!
Ярмарки в нашем селе были для меня самым интересным событием года. С утра до позднего вечера над базарной площадью не умолкал шум голосов, переборы тальянок, всхлипы шарманок, зазывные каламбуры торговцев:
А вот бруски, бруски, бруски
Да от брусков куски:
Точат косы-самокосы,
Ножи, ножницы, кинджалы, штыки —
Налетай, мужики!
— Берем косу, забиваем лезвие…
Здоровенный рыжий детина начинает плоским серым бруском с остервенением тупить косу, приговаривая:
— Забиваем лезвие, делаем как обух! Ни мяса, ни хлеба, дажить языка — и то не порежить.
И он проводит затупленным лезвием по языку — все ахают в ужасе.
— Видали миндали-фигали? — обращается тот же шутник к окружающим, вываливая изо рта невероятно длинный язык?
Толпа радостно хохочет.
— И-и-и! — вдруг взвизгивает бабьим голосом рыжий и продолжает. — Берем брусочек с коровий носочек — и-и-и! — по одной стороне раз, по другой сторонке — два! Быстро снимаем рубцы. Делаем лезвие тонкое, что бумага, и вострое, как бритва!
Если ваш сын разбил стекло,
Не надо бежать к Даниле,
От Данилы — к Гавриле,
Кормить его кашей,
Звать папашей.
А стоит только не выпить
Бутылку кислого пива,
Приобрести такое точило.
В каждом доме, в каждом хозяйстве
Такое точило — правая рука!
Рыжий высоко кидает брусок, ловко ловит его в оттопыренный карман и предлагает собравшимся попробовать косу на язык. Толпа теснее обступает рыжего. Каждому хочется попробовать косу. Конечно, не языком, а ногтем. Она действительно остра.
Торгуют на ярмарке решительно всем, что можно унести, увезти, съесть, выпить. И даже тем, на чем можно уехать: расписной кошевкой с медвежьей полостью, розвальнями, дровнями. Ведут красавца рысака и тощего полуслепого одра, которому торговец-цыган за щеку пристроил когтистую лапку какого-то зверька, чтобы одер игриво вскидывал голову.
Здесь — и фокусники, и факиры, и гадатели, и продавцы икон и иконок.
Минуя группу татар, играющих в какую-то азартную игру, еле передвигая ноги, бредет древний старец. Он весь обвешан маленькими иконками с изображением Георгия-победоносца из сказания о Змие. Простуженным сиплым голосом старец выкрикивает малопонятные слова:
— Страшное наказание непокорному сыну, который мучил и терзал свою старушку мать и не давал ей в первый день Светлохристова воскресенья разговеться! Лучше, грит, я змею буду кормить, чем тебя, лютую. В это время окружила его огромная змея!.. Кресток-образок — пять копеек. Ваших — двадцать; пятнадцать — сдачи получите, пожалуйста…
Только поздним вечером усталые, голодные до головокружения, но беспредельно счастливые, переполненные впечатлениями от бурного дня, мы разбегались по домам.
Под впечатлением увиденного, услышанного, а также из-за боязни, что мне попадет за постоянные опоздания к ужину, я почти с порога начинал воспроизводить как можно подробнее ту или иную сцену.
А однажды в ярмарочный день к нам в гости заехал друг нашей семьи доктор Григорий Иванович с женой. Зашел на огонек и папин друг, страстный рыболов-удильщик дьякон Андрей Папилович. Еще в сенях я услышал посторонние голоса и не посмел ворваться в дом, как всегда, и нарушить беседу. Тем более что дьякон говорил:
— Мне ведь, Петр Никифорович, все одно, что петь: что псалмы, что «Солнце всходит и заходит»…
— Бога ты не боишься, Андрей Папилович! — возмущалась бабка Тарутина.
На некоторое время воцарилась неловкая тишина. По своему маленькому опыту я знал, что эта временная тишина сейчас будет нарушена спором о религии. Потихоньку открыв скрипучую дверь и так же тихонько притворив ее за собой, я ссутулился, подогнул колени, шаркая по полу ногами, прошелся по комнате и громко выкрикнул сиповатым голосом:
— Страшное наказание непокорному сыну, который мучил и терзал…
Я не успел договорить, мои слова заглушил дружный хохот собравшихся. Громче всех смеялся Андрей Папилович:
— Ну, уважил! Ну, насмешил…
А Григорий Иванович очень серьезно посмотрел на меня и сказал:
— Петр Никифорович, а ведь ваш сын — артист!
Услышав слово «артист», я опрометью бросился за печку, забрался на полати и долго тихо всхлипывал. На ярмарке мне не раз приходилось слышать это слово. Только применительно к тому, кто что-то украл очень ловко или кого-то обвел, как говорят, вокруг пальца.