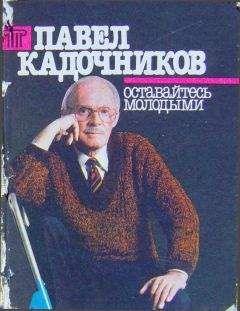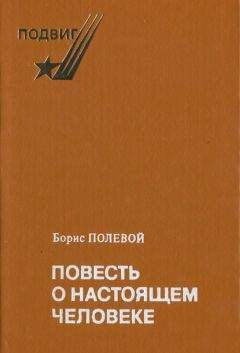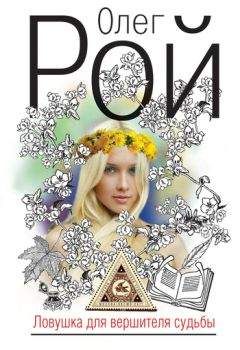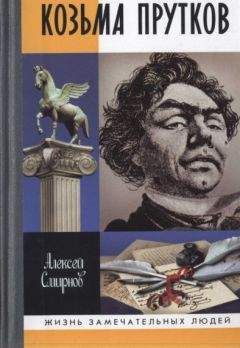— Ну, уважил! Ну, насмешил…
А Григорий Иванович очень серьезно посмотрел на меня и сказал:
— Петр Никифорович, а ведь ваш сын — артист!
Услышав слово «артист», я опрометью бросился за печку, забрался на полати и долго тихо всхлипывал. На ярмарке мне не раз приходилось слышать это слово. Только применительно к тому, кто что-то украл очень ловко или кого-то обвел, как говорят, вокруг пальца.
Позже, когда меня пригласили в драматический кружок взрослых, где я в одном из спектаклей должен был сыграть мальчишку, опрокинувшего тесто для блинов, понял истинное значение этого слова. Задача моя сводилась к тому, чтобы улизнуть от расправы отца, когда мой герой нечаянно опрокидывал на себя жидкое тесто. Но улизнуть не удается. Отец ловит меня и, сам перепачкавшись в тесте, звонко хлопает по голой заднице.
Мой отчаянный вопль вызывал взрыв неудержимого хохота и одобрительных выкриков:
— Вот это артист!
— Браво, артист!
— Молодец, артист!..
Не перестаю радоваться волшебству пробуждения природы, как не перестаю удивляться чуду человеческой памяти. Родство между ними нетрудно увидеть. Как задремавшей почке любого растения достаточно весенней улыбки солнца, чтобы она брызнула нежно-зелеными листьями, красивыми соцветиями, так и памяти достаточно одного теплого человеческого взгляда, тонкого солнечного лучика, проклюнувшейся почки, чтобы ярко ожили картины прошлого.
В январский мороз недавней поездки в Бикбарду я поднял с земли у нашей старой школы только что сломанную веточку. Возможно, она обломилась под тяжестью птицы и упала с самой вершины дерева: в такие морозы ветви очень хрупкие. Поняв меня с полувзгляда, жена положила ее в сумочку и улыбнулась:
— На память.
Приехав в Ленинград, она поставила эту веточку в чуть теплую воду:
— А вдруг оживет.
Веточка стояла на подоконнике и совершенно не подавала признаков жизни. Прошли январь, февраль. На пороге — март… В окошко к нам стало чаще заглядывать солнце.
И вдруг, посмотрев на эту веточку, я, как ребенок, вскрикнул от радости:
— Проклюнулись!
Жена подошла и тоже удивилась:
— Надо же — ожила!
Ожила не только веточка, но вместо с ней и память о далеком детстве.
Вот в такое же весеннее время я, второклассник, на перемене сидел на скамейке в том же самом школьном дворе, где росла эта веточка. Сидел под школьным окном, на солнечной стороне, вместе с Шурой Тараториной, недавно приехавшей к нам из Сарапула.
Сарапул… Мгновенно ожил в памяти и этот уральский городок, который я навестил 11 декабря 1951 года. Солнце яркое, снег белый-белый. И дома тоже белые. Много их сохранилось еще от старого Сарапула: с замысловатыми резными наличниками, коньками, крылечками из тонких деревянных кружев.
Вспомнил даже те добрые чувства, которые вызвала во мне тогда эта красота человеческих рук. И как-то грустно было сознавать, что в скором времени на этом месте будут стоять однообразные, унылые архитектурные творения. Подумалось: «Доведись кому-то из режиссеров снимать картину о наших не столь уж отдаленных предках, вряд ли им удастся отыскать такую своеобразную улочку, в которую так здорово вписались бы запряженная шустрой лошадкой кошевка с медвежьей полостью».
От Бикбарды Сарапул находится всего в ста верстах. Но мне в детстве казалось, что город от нас — где-то за тридевять земель.
И вот к нам в Бикбарду из Сарапула приехал новый лесничий. Бикбардинцы заволновались, засуетились:
— Из Сарапула!..
Я не бывал еще в то время нигде, кроме ближайших деревень, где жили наши ближайшие родичи, и Сарапул представлялся мне огромным и почему-то черным. Может быть, потому, что Тараторин, наш новый лесничий, носил черные буденновские усы, глаза у него были угольного цвета и шевелюра черная, курчавая.
Лесничий приехал к нам со всем своим семейством. С ним была жена — высокая и удивительно тонкая женщина, сын Игорь и дочь Шура, примерно моего возраста. Игорь ходил в коротких штанах на лямочках крест-накрест и без рубашки, самодовольно выпятив круглое, как арбуз, брюшко.
Нам было очень смешно, и разбирало любопытство:
— Почему это лесничонок ходит без рубашки и в коротких штанах?
Мы ходили за Игорем стайками, поглядывали на него издали и хихикали. Потом стали подходить поближе и даже осмелились задать вопрос:
— Ты это пошто нагишом ходишь?
— Я — рахит! — шмыгнув носом, гордо ответствовал Игорь, недобро уставив на нас черные, как у отца, глаза.
Значение этого слова, конечно, никто не знал. Оно показалось нам каким-то загадочным и важным. Ох, как всем нам тогда захотелось быть рахитами!
А сестра Игоря Шура носила необычное пальто: колокольчиком, без хлястика, и называла его тоже занятным словом «реглан». Мы же это слово почему-то сразу «перелицевали» в «реглант».
Когда Шура в черных аккуратных чесанках, в «регланте», с красной сумочкой проходила по улице с матерью, мы с завистью смотрели на нее и, подталкивая друг друга, говорили:
— Вон Шурка-реглант пошла.
«Подумаешь, — размышлял я тогда про себя, — реглант… Да если у моей дубленой шубейки отрезать хлястик, небось тоже «реглант» получится».
И однажды, после упорных трудов, я все-таки выдрал у полушубка хлястик. Конечно, мне за это сильно попало, но… зато у меня был тоже «реглант»!
Чем мне нравилась Шура? Тем, что она была не такая, как все: черные глаза, темные косички… И тем, что она знала всех птиц, даже редкие растения, и была очень любознательная. «Если бы можно было с девчонками водиться, выбрал бы Шуру Тараторину, — втайне думал я. — Но… нельзя, все засмеют».
Будто угадав мое сокровенное желание, однажды на переменке Шура подошла ко мне и позвала в школьный двор:
— Павлик, пойдем на солнышко… за школой на скамеечке посидим? Не бойся: никто не увидит.
— Пойдем… — робко ответил я и пошел следом.
Осмотрелись, не следят ли за нами мальчишки, сели под окном нашего класса на скамейку, и от волнения я почти лишился дара речи.
— Как солнышко припекает! — говорит Шура и, смешно жмурясь, с удовольствием подставляет первым весенним лучам красивое смуглое лицо.
А я, онемев, только и делаю, что поддакиваю:
— Да, припекает.
Посидели еще в неловком молчании.
— Смотри: на самую верхушку дерева над памп села ворона, — заметила дочь лесника.
— И правда, села, — с трудом разглядев птицу, повторил я и вздохнул: — Нам бы урок не проворонить.
— Ой, — вдруг удивленно вскрикнула Шура. — Смотри перед собой.
— Куда?
— На веточку смотри. Видишь, почки проклюнулись!
— И правда, проклюнулись! — забыв обо всем, воскликнул я от радости, заметив клейкие, нежно-зеленые кончики листочков.
Радость наша оказалась слишком громкой. Тут же над нами распахнулось окно, высунулись ребячьи стриженые головы, и на весь школьный двор так, что каркнула в испуге и улетела ворона, раздалось хором:
Тили-тили-тесто —
Жених и невеста…
Хорошо еще, что раздался школьный звонок и хоть немного заглушил их голоса. Вбежав в класс, мы сели за парты, и долго еще все над нами подтрунивали-посмеивались, а мы стеснялись даже посмотреть друг на друга.
Наконец, когда все успокоились, мы переглянулись с Шурой и улыбнулись своей тайне. Нам казалось, еще никто не знал в том году, что Весна уже сотворила чудо: первые почки уже проклюнулись!..
Бывают люди, так щедро наделенные природой, что они всегда излучают молодость, радость, задор, веселье, высокую мечту, поэзию, музыку — жизнь! Таким учителем жизни, к счастью, для нас, школьников Бикбарды, стал Феодосий Васильевич Виноградский.
Как проникновенно и с какой любовью Феодосий Васильевич рассказывал нам о Ленине, о пионерах и комсомольцах! И удивительно ли, что всем классом мы вступили в пионеры — так хотелось каждому из нас быть верным ленинцем.
Виноградский учил нас обрабатывать землю. Даже организовал экскурсию в соседнее село и показал, как работает электрический плуг. Помню, как, возвращаясь в родную Бикбарду, мы дружно пели всем классом песню на стихи Феодосия Васильевича и на бравый мотив «Мы — красные кавалеристы»:
Мы — ШиКеМята дружные,
И про нас
Село в часы досужные
Ведет рассказ
О том, как корнеплодами
И рядовыми всходами
Мы, юные крестьяне,
Поднимаем урожай.
На нашем знамени
Колосья звенят;
— Долой соху!..
Кто такие ШиКеМята? Да конечно же, это мы, учащиеся школы крестьянской молодежи.
А разве забудешь, как по этой вот бикбардинской дороге Феодосий Васильевич выводил в лес, поле, на озеро и учил слушать музыку природы? Мы затаив дыхание слушали и песнь соловья, и радость жаворонка, а грозное вечернее уханье болотной выпи, и еле слышный разговор с прибрежными камышами на вечерней зорьке волн.