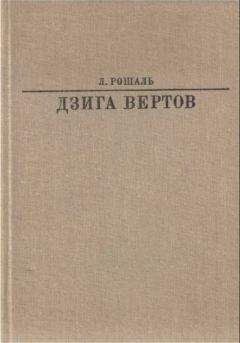Вертов все отчетливее понимал, что перед ним возникает небывалая по размаху и сложности творческая задача: поднять обыкновенного человека до масштабов хозяина шестой части мира в минуту его обыденной жизни. Нельзя было допустить, чтобы обыденность ушла из ленты, тогда между экраном и жизнью установятся искусственные отношения.
Картина должна быть сплетена, как кружева, тончайшим образом из множества рядовых мгновений человеческой жизни, и прежде всего человеческого труда, снятых операторами на всем пространстве Советской земли.
Но необходимо найти способ выведения этих рядовых мгновений из обыденного ряда.
Требовалась такая мощь обобщений, какая возможна и оправданна, пожалуй, в одном виде искусства — поэзии.
Может быть, еще — в музыке.
Появятся только самые первые рецензии после самых первых, закрытых просмотров, а они уже сразу запестрят словами «поэма», «симфония».
Недавний сокрушитель этих традиционных жанров творчества протестовать не станет.
Нет, он не принимался за картину «Пробег Кино-Глаза сквозь СССР» с мыслью, что на этот раз сложит поэму, сотворит киносимфонию.
Но его привела к этому логика замысла.
Своеобразие судьбы этого художника связано с одним довольно редким обстоятельством в искусстве — у него никогда не было прямых и непосредственных учителей.
Существовал, конечно, опыт других видов художественного творчества, он не прошел для Вертова бесследно.
Но учителей в той области, в которой он работал (учителей не ремесла, а методов художественного осмысления фактического киноматериала), не существовало, потому что не существовало самой области, не было предшественников.
Однако прекрасный материал для обучения давал собственный опыт.
Вертов отнюдь не варился в собственном соку.
Был внимателен к другим видам искусства и смежным видам кинематографа, к тому, что происходило в документальном кино.
Многое в нем Вертова не устраивало, в особенности нетворческое отношение к организации снятого материала.
Но плодотворность самоанализа заключалась в том, что многое его не устраивало и в собственном опыте.
Во всяком случае, свое предшествующее он никогда не считал незыблемым для своего настоящего — все зависело от конкретного материала и вызревающей в нем идеи.
Вертов никогда не ходил в учениках, но никогда не забрасывал учения.
Он приходил к лирико-поэтическим, художественным жанрам, которые отрицал.
На самом деле он отрицал не жанры, а старое их понимание.
Он пришел к старым жанрам, но понял их по-новому.
Им высмеивался механический «синтез» искусств на экране.
Ко времени «Шестой части мира» Вертов ощутил в себе силы, способные создать условия для органического взаимодействия различных искусств.
К тому же стремление к смысловому синтезу естественно вело к синтезу средств выражения.
Полифония смысловых оттенков в разнообразных кадрах, концентрирующихся вокруг ведущей темы, движение материала по параллельным и ассоциативным линиям в сочетании с выверенным метром и ритмом вызывало ощущение могучих музыкально-поэтических звучаний.
И во все это вплетался еще один, самый существенный компонент — слово.
Здесь Вертов вступал в полемику с собой не только прошлым, но и будущим.
Никогда слово не приобретало в его лентах такого значения, какое приобрело в этом фильме.
Дело не в количестве надписей, в «Шагай, Совет!» их было не меньше.
Но новая картина выдвинула новые условия.
В прежнем фильме надписей было много, но предельное смысловое слияние с изображением делало их присутствие почти незаметным.
В «Шестой части мира» слово не таилось, не старалось полностью войти в плоть изображения, растворясь в нем, а открыто летело с экрана навстречу зрителю.
Надпись переставала быть обычным титром, она как бы вытеснялась за скобки фильма.
Вертов называл картину опытом уничтожения надписей через их выделение в слово-радио-тему.
Написанное слово превращалось в слово произнесенное, произнесенное как бы за кадром, хотя в условиях немого кино оно, конечно, появлялось на экране в виде надписей в кадре.
Но строй надписей, их интонационная основа делали написанные слова звучащими.
Не случайно Вертов говорил о выделении надписей в слово-радио-тему.
Зрительское ощущение слышимого симфонизма ленты во многом предопределялось ощущением звучащего с экрана слова.
Вертов не информировал, не пояснял, не комментировал, а открыто ораторски обращался в зал.
В частных моментах он предпринимал подобные попытки и прежде — начиная с первого номера «Кино-Правды» («Спасите голодающих детей!!!») и кончая последним перед «Шестой частью мира» опытом «Шагай, Совет!» с митингом автобусов и выступлением оратора.
Но впервые это стало принципом строения целого фильма.
Верный себе, Вертов не подменял словом изображение, не подчинял ему монтаж.
Стягивая множество фактов в один узел, монтаж подчинялся основной смысловой задаче: выявлению генеральной линии страны на строительство новой жизни при всеобщем участии народа, берущего свою судьбу в собственные руки.
Монтаж кадров строился в виде внутреннего монолога (разрозненные картины сближаются друг с другом мысленно).
Монтаж слов, сочетавшийся с монтажом изображений, был монологом, произнесенным вслух.
Но и тот и другой подчинялись логике единой мысли, она выражала логику объективных жизненных закономерностей.
Вне ее вся эта поистине грандиозная конструкция рухнула бы.
Однако открытая патетика обобщений оправдывалась не только точным соотнесением их смысла с глубинной сутью жизненных явлений.
Мера и способ обобщения оправдывались и точно понятыми закономерностями избранного жанра.
Откровенности пафоса соответствовал открыто-лирический строй ленты — надписей прежде всего.
Призыв, брошенный с экрана в зал в первой «Кино-Правде», принадлежал и автору, и еще тысячам и миллионам, они спасали умирающих от голода детей.
Клич передавал эмоции всех и каждого, но был лишен индивидуального выражения.
На митинге автобусов слова, разносившиеся по площади в утренней тишине, принадлежали главному персонажу эпизода — оратору.
В «Шестой части мира» все, что было произнесено, принадлежало автору.
Поэту.
Или, правильнее, — лирическому герою его кинопоэмы.
В строе надписей прежних картин тоже всегда чувствовалось: слова пропущены автором через свое Я.
Но на этот раз автор все слова не только пропустил через свое Я, он их и высказал от своего Я.
Начиная с первого произнесенного в картине слова: «Вижу…» Поэт видел тяготы людей труда в странах капитала, показывал увиденное зрителю, делился с ним своими переживаниями.
Кадры сменяли друг друга, каждая надпись соотносилась со смыслом определенного изображения, и в то же время надписи входили в сцепление друг с другом, складываясь в поэтические строки белого стиха.
Вижу
Золотая цепочка капитала
Фокстрот
Машины
И вы
Вижу вас
На золотой цепочке
Попы
Фашисты
Короли
И вы
И вы
И вы
Вас вижу
На службе у капитала
Еще машины
Еще
И еще
А рабочему все так же
Все так же
Тяжело
Стихотворная ритмика надписей, их поэтический лад вовлекали зрителя в лирическую стихию повествования.
Лиризм ленты, однако, не давал повода к парению в заоблачных далях.
Информацию поэзией Вертов заменил, но не отменил.
Поэзия потребовала емкого слова, от этого информационная насыщенность картины не уменьшилась, а возросла.
Лирические чувства, высокие эмоции рождались из документальных фактов.
Их видел не только лирический герой, но и зритель.
Один из таких зрителей, участвуя в обсуждении фильма на страницах «Комсомольской правды», писал: после нескольких минут просмотра авторское «вижу» он повторял про себя уже как свое — я сам вижу.
Но зрителей и поэта сближала не столько общность зрения, сколько общность чувства.
Переходя к рассказу о шестой части мира, о складывающейся повой жизни, не похожей на ту, которой живет остальной мир, Вертов постарался прежде всего обнажить это чувство. Поднять, может быть, еще не для всех ясные, подспудные ощущения на высоту до конца осознанных эмоций.
Он перебрасывал зрителя из края в край огромной страны. Кадры были разными, потому что разными были люди, их труд, быт, среда, окружающая природа.
А надписи строились одинаково.
Вы, купающие овец в морском прибое
И вы, купающие овец в ручье
Вы
В аулах Дагестана
Вы
В Сибирской тайге
Ты
В тундре
На реке Печоре
В океане
И вы,
Свергнувшие в Октябре власть капитала,
Открывшие путь к новой жизни
Прежде угнетенным народам страны
Вы
Татары
Вы
Буряты
Узбеки
Калмыки
Хакасы
Горцы Кавказа
Вы коми из области Коми
И вы из далекого аула
Вы
На оленьих бегах
И вы
На празднике козлодранья
Под гудки пароходов
Под зурну и барабан
Ты с виноградом
Вы за рисом
Вы, которые едите оленье мясо
Обмакиваете в еще теплую кровь
Ты, сосущий материнскую грудь
И ты бодрый столетний
Мать, играющая с ребенком
Ребенок, играющий с пойманным песцом
Ты, запрягающая оленей
И ты, стирающая ногами белье
Надписи с одинаково повторяющимся началом («Вы…», «Ты…»), казалось, должны были утомить зрителя однообразием.