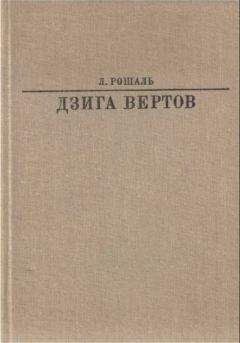А надписи строились одинаково.
Вы, купающие овец в морском прибое
И вы, купающие овец в ручье
Вы
В аулах Дагестана
Вы
В Сибирской тайге
Ты
В тундре
На реке Печоре
В океане
И вы,
Свергнувшие в Октябре власть капитала,
Открывшие путь к новой жизни
Прежде угнетенным народам страны
Вы
Татары
Вы
Буряты
Узбеки
Калмыки
Хакасы
Горцы Кавказа
Вы коми из области Коми
И вы из далекого аула
Вы
На оленьих бегах
И вы
На празднике козлодранья
Под гудки пароходов
Под зурну и барабан
Ты с виноградом
Вы за рисом
Вы, которые едите оленье мясо
Обмакиваете в еще теплую кровь
Ты, сосущий материнскую грудь
И ты бодрый столетний
Мать, играющая с ребенком
Ребенок, играющий с пойманным песцом
Ты, запрягающая оленей
И ты, стирающая ногами белье
Надписи с одинаково повторяющимся началом («Вы…», «Ты…»), казалось, должны были утомить зрителя однообразием.
Но Вертов действовал в согласии с точными композиционными расчетами.
Форма словесных повторов соединялась с неповторимостью зрительной: то стужа тундры, то жара Кавказа, то виноград, то оленье мясо, то младенец, сосущий грудь, то столетний старец — в монтаже Вертов неукоснительно придерживался резких зрительных смен.
Но расчет был и на другое — на множественность словесных повторений, на их неторопливое, длительное накопление.
Долгие повторы утомляют, а сверхдолгие, когда зритель начинает понимать, что это неспроста, наоборот, постепенно возбуждают интерес: что бы это значило?..
Тем более что Вертов этот интерес усиливал, все больше увеличивая размеры слов «ВЫ», «ТЫ», акцентируя на них внимание публики и как бы подтверждая: да, неспроста!
А когда интерес достигал наконец своего пика, то он находил возможность поднять его еще выше.
Вслед за словами «И ты, стирающая ногами белье» (на экране женщина на берегу горной реки барабанила пятками по мокрому белью — таков был древний способ стирки) шла надпись: «И вы, сидящие в этом зале».
В длинную цепь повторов Вертов включал зрительный зал. Объединял сидящих в нем с теми, кто был на экране.
Со всей страной.
А потом уже поэт объяснял, что всем этим хотел сказать.
Вы
По колено в хлебе
Вы
По колено в воде
И вы, прядущие лен на посиделках
Вы, прядущие шерсть в горах
Вы
Все
Хозяева
Советской
земли
В ваших руках
ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ
МИРА.
Последние три слова стояли в кадре во весь экран.
Экран сближал людей, живущих в разных уголках Советской земли.
Монтажом показывалась и одновременно преодолевалась географическая и этнографическая пестрота жизни во имя понимания ее новой социальной цельности.
Монтаж закладывал зрительную основу обобщений.
Надписи довершали их словесно.
Слово высвобождало скрытую в документе энергию.
Факты прогонялись через слово, как через атомный реактор.
Получали мощный заряд пафоса.
Превращались, как любил говорить Вертов, в экстракт выводов.
Дело, естественно, было не только в слове — в общем строе ленты, в монтажной системе размышлений, сочетающейся со словом.
Но слово трудилось в фильме неутомимо.
Рефренное «Вы…», «Вы…», «Вы…» придавало репортажно снятым кадрам простой, обыденной жизни сначала оттенок загадочности, потом все возрастающей многозначности и в конце концов поднимало людей, совершающих в кадре каждодневные действия (купают овец, охотятся, прядут шерсть, кормят детей, стирают белье, смотрят в зрительном зале кино), на высоту нового понимания человека и его общественного предназначения.
Предметы в кадре, говоря словами Эйзенштейна, выходили из самих себя. Из своего обычного состояния.
Они обретали новые качества, получали новое измерение.
Жизнь, ограниченная своим привычным микромиром, становилась частицей макромира.
Рефрены меняли характер изображения: хроника становилась зрелищем — ярким, необычным, острым.
Вертовские поиски способов обострения обыденного, выведения заурядного из рядового состояния смыкались с поисками новаторского искусства тех лет, с идеями «остранения», «очуждения» действительности, преломленной искусством.
В этом Вертов оказывался близок даже театру, исканиям Мейерхольда, начинаниям Брехта.
С Мейерхольдом Вертова познакомил Февральский. Вертов ходил на спектакли, смотрел с интересом.
Театр Мейерхольда издавал своеобразный журнал-программу «Афиши ТИМ».
В третьем номере (ноябрь 1926 г.) была помещена короткая, но емкая статья, спорящая со сделанным в это время заявлением Эйзенштейна о гибели театра перед лицом кинематографа. В ней довольно убедительно доказывалось: многие сцены «Потемкина», в частности финальная (встреча с царской эскадрой), воздействуют на зрителя потому, что повторные движения орудий, тень от судна на воде, движение стрелок манометра являются не натюрмортами, а живыми участниками игры, становятся снимками не фактической, а театральной данности, театрального воздействия. Это обеспечивает успех кинематографии Эйзенштейна с такой же закономерностью, с какой отсутствие театральности, замечал безвестный автор (имя его не было указано), до сих пор мешало успеху Дзиги Вертова.
Вывод относительно Вертова был несколько поспешным. То, что касалось сцены «Потемкина» с ожившими благодаря игре предметами, присутствовало во многих лентах Вертова, в том числе в застучавших сердцах машин после митинга автобусов.
Театральность возникала не как впрямую поставленная цель, а как объективно возникающий эффект воздействия — воздействия разворачивающегося, разыгрывающегося на глазах зрителя зрелища. Кино беспредельно расширило возможности игры (по сравнению с театром) за счет введения в игру не только актера, но и предметов, не только актера, но и неактера — живого, подлинного человека.
Люди, втянутые в орбиту «Шестой части мира», оказались сближенными игрой — монтажом, словом.
Все это способствовало созданию необычайного, отстраненного зрелища.
Игра преломляла действительность, но не переламывала ее.
Отстраненность зрелища в «Шестой части мира» помогала обострению мысли — не отвлеченной, вытекающей из суммы реальных жизненных обстоятельств.
Может быть, поэтому автор статьи отметил, что отсутствие театральности мешало успеху Вертова «до сих пор», статья была написана как раз в пору нарастающего успеха «Шестой части мира».
Не случайно этот же номер «Афиш ТИМ» напечатал не безоговорочную, но в итоге благожелательную рецензию на фильм Вертова.
У Вертова не было прямых учителей.
Но у него были свои стойкие привязанности.
«Шестая часть мира» несла на себе отсвет одновременно трех его поэтических пристрастий, верность им он сохранял всю жизнь.
В стремлении рассказать о времени через себя и о себе через время, в желании воспеть шестую часть мира, в пафосе прямых ораторских обращений к массам, чеканном ритме поэтических кадров и строк — во всем этом жила любовь к Маяковскому.
Вертов не «продолжал» и не «развивал» Маяковского, не шел за ним «вслед», как писали позже некоторые критики, справедливо улавливая их близость.
Вертов шел самостоятельно.
Спустя полтора десятка лет, в войну, он говорил:
— Маяковский любил меня за то, что я не Маяковский. А Кацман не любит меня за то, что я не Кацман.
Кацман был редактором, в вертовские работы он постоянно вносил поправки.
Вертов шел самостоятельно — не к Маяковскому, а к себе.
Но понимание целей, методов искусства было предельно сближенным.
Творческая атмосфера, в которой жил Вертов, постоянно озарялась маяковскими молниями.
Существовал настрой на единую волну.
Кино двадцатых годов, в том числе Вертова, нельзя понять без Маяковского.
Но и поэзию тех лет, в том числе Маяковского (может быть, его в особенности), нельзя понять вне кинематографических явлений, в том числе и такого, как Вертов.
Октябрьская поэма «Хорошо» была написана через год после выхода «Шестой части мира».
Маяковский и Брик восторженно рассказывали о фильме немецкому писателю Ф.-К. Вейскопфу, приезжавшему в Москву в 1926 году.
Маяковский числил Вертова среди лефовцев, печатал его в своем журнале.
Вертов считал, что Маяковский в искусстве — Кино-Глаз, видит то, чего обычный глаз не видит, часто делал выписки из Маяковского, подтверждающие это: «Осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный, скабрезный анекдот, вижу идущего через годы времени, которого не видит никто».