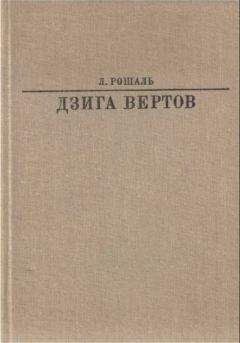Стрела была пущена уверенно, с хорошей оттяжкой тетивы, с расчетом на дальний полет.
Расчет во многом оправдался.
Но он не оправдался в главном: в цель стрела не попала и никогда не попадет.
Правда, придется подождать, пока она, согласно предсказанию Ньютона, ткнется в землю. Шуршание рассекаемого ею воздуха еще доносится. Желающих во что бы то ни стало знать номер опрокинувшегося на бок паровоза всегда можно встретить. Мысль о том, что хроника без подписи и даты — не хроника, своих приверженцев не теряет.
Но с годами она все больше теряет ту ослепительную категоричность, какая была у Шкловского. Она лишается ее не в теоретических дебатах.
Безоговорочности ее лишила практика документального кино. Хроника, построенная на информационном перечислении дат, имен, фамилий, географических пунктов и прочих конкретных сведений, включая номера показанных в кадрах паровозов, займет довольно большое место на экране.
На определенном этапе развития документального кино эта хроника во многом удовлетворяла зрительским потребностям, играя важную агитационную и просветительскую роль.
Но со временем все очевиднее становилось, что подлинный документализм не ограничивается ею.
Точное перечисление конкретных сведений не исчерпывает ни всех возможных способов информации, ни тем более всех возможных форм документальных обобщений.
В зафиксированных на пленку фактах Вертов искал не точность даты, а точность эпохи (которая, кстати, тоже всегда имеет свои хронологические границы).
Шкловский звал к хронологии, летописанию.
Вертов, опираясь на летописание, стремился стать не хронистом, а историком времени.
Ну и, конечно, — его поэтом.
Стоит ли автора «Слова о полку Игореве» упрекать в том, что он пропел песню, сложил поэму, а не вписал еще несколько страниц в «Повесть временных лет»? И правильно ли полагать на основании того, что он сложил поэму, будто он не был историком или летописцем?
Можно ли сказать, где в «Илиаде» кончается поэт и начинается историк, и наоборот? Может быть, и можно. Но — стоит ли?
Каждый одержимый человек сжигает себя и свою жизнь на своем костре.
Надо ли, если вдруг покажется, что отблеск одного из костров вроде бы какой-то не такой, подложить в него полешек из соседнего с целью уравнять силу пламени? Наверное, не надо. Хотя бы потому, что слишком велик риск услышать над ухом шепот пересохших губ: «Святая простота!..»
Мысль о старых хрониках, о летописцах, наверное, не покидала Шкловского, когда он писал рецензию на «Шагай, Совет!»: «Весь смысл хроник в дате, времени и месте. Хроника без этого — это карточный каталог в канаве».
Но сближение старых хроник с кинохроникой как раз и стало главной причиной несомненно ошибочного предположения, будто Вертов пошел по пути вбивания стенки в гвоздь.
В отличие от прежних словесных хроник кинохроника дает не умозрительное, а зримое воспроизведение фактов. Если она дату и место не называет, то очень часто показывает. В самом изображении обычно есть разнообразные приметы дат и мест событий.
Призывая к точной датировке, Шкловский вместо даты, к которой относится кадр с лежащим паровозом, потребовал указать его номер уж не потому ли, что, как человек зоркий, остро схватывающий, он где-то подспудно чувствовал присутствие в кадре вполне конкретной эпохи?
Вертов это чувствовал не подспудно, а реально и ясно. Он отлично понимал, что в самом факте лежащего на боку паровоза есть дата, какую никогда не даст указание номера. При этом важно не только то, что паровоз лежит, но и то, что лежит именно этот паровоз, со свойственным именно ему обликом, или, точнее говоря, обликом, свойственным паровозам именно того времени — периода разрухи.
«Поза» паровоза, его внешний вид, среда, в которую он помещен, сообщают зрителю дату трагедии.
В рецензии Шкловский ссылался еще на одну возможную экранную ситуацию. «Говорящий Муссолини, — писал он, — меня интересует. А просто толстый и лысый человек, который говорит, — пускай он говорит за экраном».
Но просто лысый человек, говорящий за экраном, может оказаться как раз не Муссолини. А Муссолини он может оказаться лишь тогда, когда заговорит на экране. Когда, увидев его, зритель может воочию удостовериться: Муссолини.
Или, наоборот, — не Муссолини, а какой-то другой лысый человек. И если зритель увидел, что это Муссолини и никто иной, так ли уж обязательна подпись и дата?..
Речь не о том, что подпись и дата не важны вообще. Многое зависит от дистанции, отделяющей дату съемки хроникального кадра от даты его включения в фильм, от форм осмысления материала и т. д.
Но информация приходит с экрана к зрителю по многим каналам, а не только с помощью слова. Поэтому важно, чтобы не возникало желания один из возможных методов сообщения выдать за единственно возможный.
Метод, возведенный в принцип, чаще всего лишь кажется принципиальным.
Тем более что метод, который Шкловским рассматривался как единственно возможный и который вроде бы действительно должен с помощью слова обогащать зрение, на самом деле очень часто обедняет его.
Ведь зритель узнает говорящего Муссолини не только по его облику. Существенную роль сыграет и то, что зритель займется рассмотрением его окружения. Он увидит безумный восторг оболваненной толпы, слушающей своего дуче, подобострастие ближайших соратников, знамена, эмблематику, прочие подробности подражания древнеримскому могуществу, короче говоря, то, что сложится не в некое сугубо частное понятие — Муссолини, а в понятие социально-политическое.
Но все это можно заменить и подписью под кадром: главарь итальянских фашистов Муссолини выступил в Риме такого-то числа, месяца, года.
Казалось, слово помогло зрителю, а на самом деле просто-напросто освободило от необходимости напрягать зрение, всматриваться в экран, оставив лишь право посмотреть на него. Зримую информацию он почерпнул лишь в пределах того, что подсказано словом.
Вертов говорил, что слово в документальном кино очень часто берет на себя довольно-таки странную роль: поводыря для зрячих. «Киноязыку надо учиться, — записывал он в дневнике в сентябре 1944 года. — Никто этого не делает. Думают, что диктор все наговорит. А на экране — бестолочь. Никто не замечает. Слушают диктора и через его речь глазеют на экран. Слушатели, а не зрители. Слепые, слепые. А „слепой курице — все зерно“.
Мысль Шкловского о необходимости знания номера паровоза для выполнения житейски естественной операции вбивания гвоздя в стену (а не наоборот) постепенно теряла напористую категоричность под влиянием последующего опыта документального кино, но потребность в полемике с этой точкой зрения возникла уже тогда, когда она была высказана.
Правда, полемика не была в то время доведена до конца. Жизнь еще не выдвинула многих веских и очевидных аргументов в пользу Вертова. Однако в том же номере „Советского экрана“ (№ 32, 1926) сразу вслед за рецензией Шкловского была помещена статья секретаря редакции Изм. Уразова, он отвечал Шкловскому уже самим ее названием. На вопрос, вынесенный Шкловским в заголовок: „Куда шагает Дзига Вертов?“, Уразов давал ответ своим заголовком: „Он шагает к жизни как она есть“.
Никакой нужды, отмечал Уразов, вбивать стены в гвозди у Вертова нет по простой причине: он совершенно не собирается, как предположил Шкловский, научить всех сниматься. Наоборот, он хочет прямо противоположного: чтобы никто вообще не умел сниматься.
У него задача застичь жизнь врасплох, обнажить ее.
Но при этом у Вертова взята установка на показывание не просто вещей и явлений, а сущности вещей и явлений. „Уж даже не судебный протокол, а анализ и научное исследование судебного кабинета. Основное — угол зрения“.
Сказано с той точностью, с какой в то время о Вертове говорили не часто.
Свою статью Уразов открывал общим замечанием, которое могло показаться всего лишь полемической фигурой. „Он (Шкловский. — Л. Р.) начал о „Шагай, Совет!“ и рассказал главу из теории прозы“.
Далее Уразов впрямую никак не развивал эту тему, а затронула она главное: ненужность непосредственного перенесения закономерностей прозаического, словесного, изложения вещей на вещи кинодокументальные.
Это касалось в том числе и сюжета, Шкловский считал, что его Вертов отвергает.
Уразов согласился: нет сюжета, но и без него картина „занимательней т. н. художественных фильм“.
Насчет занимательности он был прав, а насчет отсутствия сюжета согласиться поспешил. В „Шагай, Совет!“, как и в других вертовских лентах, отсутствовал не вообще сюжет, а сюжет традиционный, в его „прозаическом“, фабульном понимании.
15 декабря 1926 года „Комсомольская правда“ напечатала короткое интервью с Вертовым, текст, видимо, с ним окончательно не согласовали. В интервью вошли слова „Борьба работников Кино-Глаза за новую неигровую (без сюжета) фильму опирается на требования, высказанные еще в 1922 г. т. Лениным“.