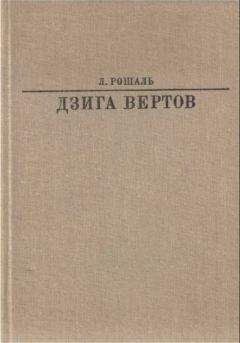Он — разведчик. Он — наблюдатель. Он — стрелок. Он — следопыт. Он — исследователь.
Но он еще и поэт.
Он проникает в жизнь с художественными намерениями.
Он извлекает из жизни поэтические образы. Он синтезирует свои наблюдения в своеобразные произведения искусства. Делает художественные открытия. Сливает драгоценные крупинки подлинной правды и песни правды в поэмы правды, в симфонию объективной действительности».
Это была не декларация на будущее, а вывод из пройденного. Все песни правды, поэмы правды, симфонии объективной действительности Вертов уже снял.
Он еще этого не знает.
Но дневниковая запись о синтезировании наблюдений в произведения искусства подводила итоги пути, начатого громоподобным потрясением пьедестала искусства.
А между тем поиски возможностей извлечения из жизни художественных образов на практике стали осуществляться одновременно с их декларативным отвержением.
Поначалу осторожно, в виде эксперимента, отдельных открытий и частично реализованных намерений.
«Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира» впервые столь прямо и открыто поведали зрителю о том, что прежде лишь неясно предчувствовалось, не выливалось в очевидность: их автор — не только охотник за кадрами правды, наблюдатель и исследователь, он еще и поэт.
Проникает в жизнь с художественными намерениями.
Извлечение из жизни поэтических образов теперь перестало быть отдельной, частично реализуемой задачей, а превратилось в главную цель творчества, хотя как раз в отдельных моментах, в частностях осуществить ее до конца, может быть, и не всегда удавалось.
Пресса замечала: в «Шестой части мира» поэзия порой приходит в столкновение с «прозой» обычной хроники — разгрузка и погрузка товаров в портах, на железнодорожных станциях.
Доброжелательная критика отмечала это без особых акцентов, как частный просчет, он не имел решающего значения.
Недоброжелательная — с иронией: вот вам и поэма, ха-ха-ха!..
Но посмеивающаяся критика не обратила (или не захотела обратить) внимания на то, на что обратила доброжелательная: истоки неполной гармоничности ленты — в ее заказном посыле.
Поэтический замысел Вертова оказался гораздо шире, мощнее деловой прозы госторговского обмена.
Доброжелательная критика (а она на этот раз находилась в очевидном большинстве), то мимоходом сетуя, то поднимая проблему со всей резкостью, спрашивала: почему такой мастер, как Вертов, не получил на такую картину, как «Шестая часть мира», заказа от кино-организаций, а вынужден был работать по заказу ведомства, далекого от кино?
21 сентября 1926 года «Кино-газета» в своем постоянном информационном разделе «Вкратце» сообщала о выступлении на общем собрании киноков Дзиги Вертова, который между прочим сказал:
— Девять лет борьбы за киноправду, и в результате ни одного задания от кинопромышленности. Если бы не кино-глазовские заказы (от Моссовета, от Госторга), мы, может быть, не увидели бы ни одной работы Кино-Глаза. Чтобы сделать из узких ведомственных заказов картины всечеловеческого звучания — нужны нечеловеческие усилия.
Эта речь, добавляла газета, о нечеловеческих усилиях, имеющая характер человеческого документа, должна быть выслушана с тем большим вниманием, что киноки закончили сейчас замечательный фильм «Шестая часть мира».
В работе над картиной образовалась ситуация, аналогичная работе над «Шагай, Совет!». Заказ открывал великолепные перспективы для решения художественных задач грандиозного масштаба и одновременно исподволь суживал этот масштаб.
Но Вертов теперь был более тверд и последователен в осуществлении как собственных намерений, так и задания, полученного со стороны.
Он ни в коем случае не хотел подводить заказчика.
Учитывая опыт предыдущего фильма, Вертов постарался сделать все возможное, чтобы воплощение собственного замысла не помешало Госторгу признать картину.
В интервью, опубликованном печатью 16 октября, предгосторга А. А. Трояновский отмечал, что в фильме нужно было показать роль, какую в строительстве СССР играет Госторг.
— Выполнение этой задачи Вертовым, — говорил Трояновский, — оправдало наши ожидания… «Шестая часть мира» — ценный вклад не только в кинематографию, но и в освещение жизни и работы в СССР вообще… Ценный материал, оставшийся от «Шестой части мира» (который мы считаем нашей собственностью), таким образом, будет использован до конца. Горячий прием, оказываемый фильме на просмотрах, убеждает нас в том, что и с коммерчески-прокатной стороны «Шестая часть мира» оказалась рентабельной.
Вертов полностью удовлетворил заказчика и выполнил задачи, которые ставил перед собой.
Но преодолеть противоречия ситуации до конца, во всех деталях не удалось.
Однако то, что удалось не в деталях, а в главном, было настолько значительным, что частности не смогли заслонить для большинства очевидного: Вертов становится создателем нового направления в советском и мировом киноискусстве — поэтического документального кинематографа.
Временами Вертов еще будет отказываться от своей причастности к искусству, но горячности в это будет вкладывать все меньше и меньше.
Зато — наряду с ростом сторонников — от него начнут отказываться (вкладывая в это дело горячности все больше и больше) те, кто недавно находился в одном с ним стане поборников кино, противопоставляющих документ вымыслу, факт анекдоту.
Впрочем, в стане «голого», «чистого» факта, факта как такового они — остались.
Ушел Вертов (начал свой уход давно).
Это показалось изменой — не стану, а факту.
Изменой факту показалось его слияние с поэзией, с поэтической образностью.
Пыл, сарказм, блестящее остроумие, с какими они сражались за факт на экране и за Вертова, они теперь направили против Вертова, думая, что все еще остаются при этом поборниками чести документа.
«Шестая часть мира», в целом триумфально принятая прессой и зрителем, вместе с «Шагай, Совет!» послужила поводом для одной из самых острых и принципиальных полемик, когда-либо разгоравшихся вокруг Вертова и той области кино, которой он посвятил себя.
Полемика сопровождалась искрометными выпадами, сверкающими белозубьем шутками, не похожими, однако, на зубоскальство Анощенко.
Все было гораздо сложнее и серьезнее.
«Я хочу знать номер того паровоза, который лежит на боку в картине Вертова».
Началось с этой фразы.
Ее бросил — легко, задорно и, конечно, задиристо — Виктор Шкловский.
С исчерпывающей категоричностью она выражала пафос небольшой, но плотно сбитой статьи о «Шагай, Совет!».
Фраза стала знаменитой.
Она коснулась наиболее оголенного, беззащитного участка документализма.
Снова, уже не в первый раз (но, может, впервые с такой прямотой), был поставлен один из сложнейших и тонких вопросов: где зыбкая грань, которая отделяет истинную документальность от ее видимости?
Шкловский ответил со всей определенностью.
Отдавая дань кинематографической талантливости Вертова, он тем не менее считал: хроникальный материал в обработке Вертова лишен своей души — документальности. Объяснял: «Хроника нуждается в подписи, в датировке. Просто стоящий завод или стоящие 5 августа 1919 года мастерские Трехгорной мануфактуры — это разница».
Вне точных временных и географических координат хроникально снятый материал, но мнению Шкловского, терял свою документальность.
Отсюда и требование указать номер паровоза.
К этому требованию Шкловский подводил читателя абзац за абзацем.
А начало статьи содержало шутку, она задавала тон всему остальному.
Возможность шутки предчувствовалась уже в названии «Куда шагает Дзига Вертов?», поскольку статья посвящалась фильму «Шагай, Совет!».
Вопрос, вынесенный в заголовок, как бы заранее предусматривал ответ: Дзига Вертов шагает не туда. Правильность предположения Шкловский подтверждал первыми же строками.
Отметив, что группа Вертова — против актера и снимает настоящих людей, которые «не умеют себя вести перед аппаратом спокойно», Шкловский обратил внимание на якобы возникающую проблему: «Научить всех сниматься».
И тут же весело пояснил — «сложный способ вбивания стенки в гвоздь».
Так как веселая эта фраза находилась в начало статьи, в дальнейшем доказывающей противостояние того, что делает Вертов, истинному документализму, то читателю не трудно было прийти к выводу, что вообще метод Вертова есть не что иное, как вбивание стенки в гвоздь.
Стрела была пущена уверенно, с хорошей оттяжкой тетивы, с расчетом на дальний полет.
Расчет во многом оправдался.
Но он не оправдался в главном: в цель стрела не попала и никогда не попадет.