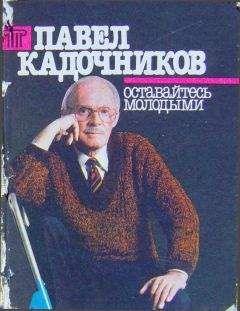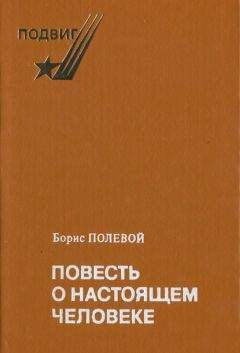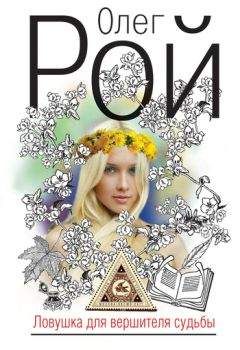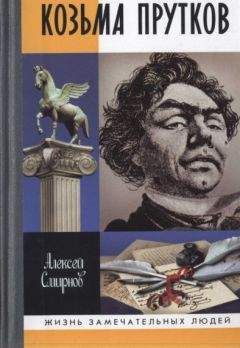Помню, сижу как-то с робятами в блиндаже. Как раз перед прорывом блокады. Тишина жуткая. Бывает на фронте такое затишье, от которого мороз по коже дерет. Поглядел я на робят, вижу — молодые, боятся. И говорю: «Робята, что это у вас за война? Что это тихо у вас так, а? Вроде как в санатории сидим».
И стал им про танковый бой рассказывать. Дак они вроде и про страх забыли. Об этом до комиссара дошло. Вызывает он меня к себе и спрашивает:
— Слушай, Шемякин, что это ты там ребятам рассказывал? Про какое это сражение? Теперь удержу на них нет. Так в бой и рвутся! — А я про себя думаю: мол, обмишурился. Может, про это и рассказывать нельзя.
— Ничего, — отвечаю, — товарищ комиссар. Ничего особенного не говорил.
Он меня во второй раз вызывает, ночью. Помню, в глаза так сурьезно смотрит и говорит:
— Ну, Шемякин, признавайся, как на духу: в каком ты это бою участвовал, а?
Тут я ему все и выложил. Сам понимаешь: ведь комиссар спрашивает. А он, веришь ли, товарищ дорогой, встал передо мной… Руки по швам вытянул, в глазах слезы и говорит:
— Эх ты, Шемякин, ты, Шемякин, родной ты мой! Что же ты мне сразу-то не сказал, да какой же ты есть человек? Ты даже сам не знаешь, какой ты есть человек. Тебе же ведь посмертно присвоено звание Героя Советского Союза! Дак у меня, знаешь ли, когда он это сказал, даже коленки подкосились. Вот как!
Мы долго молчали, потрясенные его рассказом. Потом я спросил:
— Товарищ Шемякин, а песню, песню про себя слышали?
Он удивленно посмотрел на меня и ответил:
— Нет, не слыхал. Какая песня?
И я от всего сердца и для него, и в память о павших героях запел:
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых смелых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Шемякин смущенно улыбнулся и попросил:
— Слушай, товарищ, напиши мне эту песню, а?
Я записал ему текст песни. Отдавая листок, с глубокой благодарностью посмотрел в его добрые голубые глаза и подумал: «На всю жизнь запомню урок великой простоты героя-панфиловца!»
Как стать настоящим человеком
Когда я впервые прочитал великолепную книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», долго не мог успокоиться. Так глубоко она взволновала меня.
Помню, я положил книгу на стол и мысленно сказал себе: «Пусть она всегда будет со мной. Даже когда стану старым, буду вновь и вновь перечитывать эти страницы — и, верю, они и тогда придадут мне силы, помогут жить и трудиться».
И можете легко представить, как я обрадовался, когда режиссер Александр Столпер предложил мне сыграть летчика-истребителя Алексея Мересьева в кинокартине «Повесть о настоящем человеке».
Но тут же возникло беспокойство. Ведь в книге, литературном произведении, автор имеет право на вымысел, домысел, дорисовку образа. А каков он в жизни — прототип главного героя — Алексей Петрович Маресьев?
Думы о встрече с ним не давали покоя. Хотелось поговорить с этим удивительным человеком по душам.
О чем? Не о том, как он выползал из леса с перебитыми ногами, голодный, полумертвый. Об этом очень ярко рассказано в книге.
Как Маресьев живет сейчас? О чем думает? Горят ли у него по-прежнему глаза? Такие же они огненные, какими были когда-то в бою? Сохранил ли он в себе страстность отношения к жизни? Вот какие мысли, какие вопросы не давали мне покоя.
Знать об этом было важно не только для создания правдивого образа советского летчика в кино, но и для моего собственного становления как человека.
Впервые я встретился с Маресьевым под Звенигородом, где мы должны были снимать зимнюю натуру. Квартировали там в доме отдыха Академии наук. Жду Алексея Петровича и волнуюсь, волнуюсь и жду.
Вижу: по длинному коридору чуть покачивающейся походкой идет Маресьев. Мы узнали друг друга издали. Подхожу к нему, крепко жму руку. Он еще крепче пожал мою и почему-то смутился.
Так и записано в моем дневнике: «Прославленный летчик, Герой Советского Союза, человек, о подвиге которого знает чуть ли не весь мир, застенчив».
Входим в мою комнату. Молча садимся. Смущенно глядим друг на друга. Улыбаемся, потираем руки, нескладно хмыкаем, а разговор не клеится. Чувствую неловкость положения — и еще больше волнуюсь.
Наконец Алексей Петрович заговорил первым:
— Я ведь знаю, что вас интересует больше всего. Очевидно, вас интересует, как это мне удалось преодолеть…
Он делает паузу, а я думаю: «Сейчас скажет: «…район Черного леса». Но он продолжает:
— …преодолеть врачебную комиссию и доказать, что я физически здоровый человек.
И вдруг, неожиданно для меня, Алексей Петрович мягко и свободно встает на стул и страстно доказывает:
— Я ему говорю…
— Кому?
— А председателю комиссии: «Разве это — не ноги?! Разве не тренировка?!»
И, звонко похлопав ладонями по протезам, Маресьев спрыгивает со стула.
Так в кинокартине «Повесть о настоящем человеке» и родилась известная всем сцена. Никто ее не выдумывал, она шагнула на экран из самой жизни.
Не только в этом суть, что Алексей Петрович со стула спрыгнул. А разве менее важно, какими глазами он посмотрел на меня после прыжка? «Неужели, — думаю, — сейчас увижу глаза человека, желающего скрыть от меня боль?»
Нет. На меня смотрят прекрасные, чуть раскосые, темные, с задорной искоркой глаза — глаза физически здорового человека.
Таким я и старался быть в образе Алексея Мересьева. Но съемки на природе предъявляют к актеру особые требования. Здесь заметна малейшая фальшь. На природе надо быть таким же естественным и правдивым, как она сама. Ох, как нелегко этого добиться от себя!
Три зимних месяца длились натурные съемки от восхода до захода солнца. Проходы, пролазы, долгие часы лежания на снегу с одной только мыслью: «Не соври, не ошибись!»
Не случайно режиссер Александр Борисович Столпер, угадывавший фальшь, даже если она была тщательно «загримирована профессионализмом», много раз давал команду «стоп»:
— Вы должны быть так же естественны и просты, как окружающая вас природа. Я вам не верю, что у вас раздроблены плюсны ног. Вам не больно.
— Но откуда вы знаете? Ведь я иду от аппарата — спиной к вам, а не лицом.
Помню, я не выдержал этих нервных «стопов», безжалостных «не верю» и попросил разрешения отдохнуть. Ушел в глубь леса, сел под сосну и задумался. Случайно мой взгляд остановился на сосновых шишках. Они в изобилии валялись под деревом.
«А может быть, попробовать так?» — мелькнула мысль. Быстро снимаю унты и шерстяные носки. Выбрасываю мягкие стельки. Насыпаю в унты колючих сосновых шишек, натягиваю их на босые ноги, резко встаю — и тотчас со стоном шлепаюсь на снег от нестерпимой боли в ступнях. Поднимаюсь и, стиснув зубы до боли, все-таки иду. С великими муками доковылял до аппарата.
Александр Борисович подбегает ко мне и радостно одобряет:
— Отлично! Молодец! Великолепно! Приготовились к съемке. Мотор. Пошел…
Когда же я закончил первый удачный дубль и в изнеможении опустился на снег, счастливый режиссер не мог сдержать чувств:
— Вот это правда! О! Это — настоящая правда, неотделимая от окружающей нас природы.
Я молча снимаю унты и высыпаю на снег шишки.
Потом, в следующих дублях, и в других кадрах, шишки мне больше — не — понадобились. (Пережив в какой-то степени боль в ступнях, я, видимо, двигался в кадре более правдоподобно и реже слышал придирчивое «не верю».
Видя, с каким трудом дается нам каждый кадр. Алексей Петрович Маресьев как-то на съемках сказал в мою защиту:
— Я ведь полз в течение восемнадцати суток и: почти все время в полубессознательном состоянии, а он в полном сознании ползает здесь в лесу уже более трех месяцев.
Столпер рассмеялся его шутке, а потом совершенно серьезно ответил:
— Да. Чтобы что-то получилось в кино, надо очень любить природу своего искусства, да и вообще надо очень любить природу!
Навсегда запомнилась мне одна фраза Маресьева, которая, как мне кажется, и послужила залогом успеха нашей картины:
— Будете работать над образом Мересьева, помните только одно — я не один, нас много.
И вы догадываетесь, кого мне сразу напомнила эта фраза. Конечно же, защитника Москвы Шемякина него бесстрашных товарищей. И не просто напомнила, а помогла еще ярче создать на экране образ Алексея Мересьева.
Мересьев, еще не вполне освоив протезы, с тросточкой в руке приходит на аэродром, чтобы совершить свой первый пробный полет на самолете По-2.
— Пижон! — говорит ему командир Наумов.
— Есть пижон! — отвечает Мересьев и отдает командиру тросточку.
— Ну, вот что: первым пришел — первым и полетишь. Садись в машину.