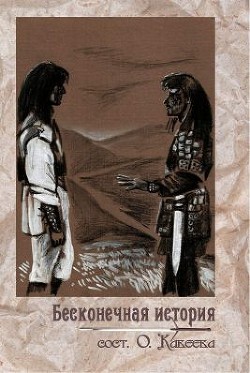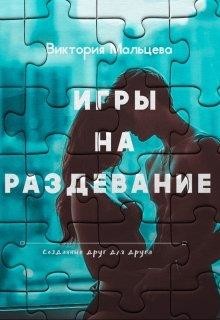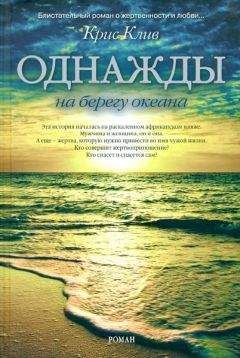Он не мог. Он был беспомощен, как ребенок, во власти этого подавляющего ужаса, и когда он пытался привести в порядок свой разум и взять под контроль свое тело, силы ускользали, как змея, смазанная маслом. Боже! Он молил только о том, чтобы справиться.
Герцогиня прикрыла его рот своей рукой. Из-за паники Дария била крупная дрожь, но некоторая маленькая, упрямая часть его сознания поняла, что делает женщина, поняла и одобрила. Он принудил свое тело к неподвижности, не позволяя себе прогнать ее.
Он дышал носом, быстрыми, короткими вдохами, которые постепенно, почти незаметно, замедлились.
Через несколько мучительных мгновений все было кончено.
Он протянул руку и положил ладонь на ее запястье, пожав его так нежно, как только мог. Ее хрупкость удивила его. Она действительно была довольно хрупкой женщиной с запястьями тонкими, как птичьи лапы.
— Хорошо, — сказала она с некоторой долей удовлетворения, — по крайней мере, ты не храпишь. Я терпеть не могу, когда храпят.
Она убрала пальцы с его губ. Он чувствовал — тепло от них останется на его лице, как своеобразная татуировка. Когда он сел, герцогиня встала с приятным шелестом юбки и отступила назад, на свою сторону камеры.
— Спасибо, — сказал он. Его голос звучал хрипло и неровно. — Прости, если я напугал тебя.
Герцогиня фыркнула.
— Требуется гораздо большее, чем простое появление ночных страхов, чтобы напугать меня, отец. Я знакома с кошмарами. Мне пришлось столкнуться с ними, когда я была моложе, и моя дочь…
Было странно снова услышать тишину. Как будто она удерживала не только дыхание, но даже самое свое сердце.
— Моя дочь, — продолжила она после паузы, — вечно боялась то одной вещи, то другой. Монстра за окном. Шума в зале. А я не верила во что-нибудь настолько чудовищное, что причинит вред такому красивому ребенку.
— Где она? — спросил он.
Среди долгого, долгого молчания он услышал дрожь ее дыхания.
— Герцогиня? — Ответа все не было. Он опустил тон до еле слышного шепота. — Тереза? Где твоя дочь?
— Мертва, — сказала она. Слово нагое, как кость. — И да простит меня Бог, я знаю, что это к лучшему. В смерти она может обрести покой, какого мой муж никогда не давал ей при жизни.
Дарий закрыл глаза. Было нечто утешительное во тьме от закрывания своих глаз, как если бы он контролировал это, сам выбрал ее. И он желал позволить Терезе хоть сколько-то побыть одной со своим горем, но тщетно.
— Я не знаю, когда это началось, — продолжала она. — Ей едва исполнилось десять лет, когда я застала их вместе. Мой идеальный, красивый ребенок. А мой муж смеялся. Как будто это ничего не значило. И я предполагаю, что это не значило ничего. Я не смогла спасти ее от него, и теперь она ушла, и нет больше страдания для нее. Я благодарю Бога за это, как ни за что другое в моей жизни.
— Тереза… — он искал слова, чтобы утешить ее, но как тут утешишь? Попытка оказалась столь же бесполезной, как и незамеченной.
— Солдаты сообщили мне, — сказала она странным, размеренным голосом, — что ее последние слова на ступенях гильотины были обращены к ее отцу. К ее отцу.
Она заплакала. Звук причинял ему боль, как раскаленные щипцы, и он не мог держаться в отдалении от нее; он осторожно, ощупью нашел дорогу в ее сторону сквозь темноту, обнял и баюкал, прижав к груди. Он думал, что герцогиня дю Шен никогда в жизни не позволяла себе плакать. Она закрывалась броней от гнева и обжигающего презрения; она хранила свою боль за возмутительным поведением и вызывающим безразличием.
Но она никогда не горевала.
Он обнаружил, что сам плачет вместе с ней, как если бы его собственный ребенок был так предан, осквернен, так ужасно и окончательно потерян.
Через некоторое время вспышка прошла, как проходят вспышки, и она, обессиленная, привалилась к нему, ее голова придавила его руку. Вся ее нервная гордость исчезла. Он стал читать молитву за невинную, и через несколько ударов сердца она присоединилась к нему, и слова связывали их крепче, чем слезы.
Когда молитва была окончена, он подумал, что желает дать ей покой, и эта цель заслонила всё остальное в его сознании. Убирая растрепавшиеся волосы, прилипшие к ее мокрой щеке, он замер.
— Дарий? — позвала она. Он закрыл глаза и устремился в темноту.
Я священник.
Означает ли это так много теперь, в конце долгой-долгой жизни? Один маленький момент сострадания — и мир будет уничтожен?
Я давал клятвы.
Бог так безумно ревнив?
Он не мог оторвать руку от ее щеки. Его пальцы проследили ее очертания, как если бы это был чертеж ключа к его сердцу.
— Нет, — пробормотала Тереза. — Нет, отец. Я не буду просить тебя согрешить.
Это была отсрочка. Помилование.
Которого он не хотел вдвое больше, чем желал ее.
Он наклонил голову.
Вкус ее губ был горьким и пряным как крепкое вино, он пробудил слепящий прилив тепла внутри него, потрясая до глубины души. Когда-то он заставил себя отстраниться от этой невероятной радости; отрекся от нее. Но даже тысяча лет сна не смогла убить этого.
Он пил ее вкус, как человек, умирающий от жажды. Мягкие полные губы так чудесно откликнулись его губам; он издал низкий горловой звук, когда она нежно дотронулась до его лица. Он позволил себе прикоснуться к ней, его руки — сначала нерешительно — спустились по ее шее к изящным покатым плечам. Кожа у нее была лихорадочно-горячая, что в свою очередь зажгло и его.
— Дарий, — прошептала она: ее губы накрыли его ухо. Мечта о наслаждении, подобные мечты он не позволял себе так долго. — Я не сделаю с тобой этого. Позвольте мне пойти к Богу хоть с малой каплей добродетели — по крайней мере, я не соблазнила священника.
Он удержал себя в узде, стараясь остаться спокойным; это оказалось сложнее, чем он мог предположить. Он хотел… он нуждался…
Я священник. Она обратилась ко мне за утешением, и так отблагодарить ее? Похотью? Предательством доверия?
Вкус ее не покидал его рот, как самое лучшее из угощений.
Это было самое трудное, что ему предстояло сделать в своей жизни — поцеловать ее нежно в лоб, подняться, и отойти так далеко, насколько позволит камера.
— Не сердись на меня, — сказала она мягко. — Отец мой.
— Я только на себя сержусь. — Он бы отошел, но поползшие по коже мурашки пришпилили его к месту стрелой из чистого изумления.
Приближался Бессмертный. Здесь?
Загремел замок. Фонарь, такой яркий, как будто смотришь в сердце солнца. Дарий прикрыл глаза и увидел темные тени в дверном проеме.
Его время закончилось.
— Отец, — раздался мужской голос, напряженный от нетерпения. — Пойдем.
— Нет! — Тереза неловко поднялась на ноги; волосы разметались вокруг покрасневшего лица, губы раскрылись, глаза горели страхом. — Нет. Ты имеешь понятие, мужик? Ты берешь простого невежественного деревенского священника вместо меня? Я герцогиня дю Шен!
— Тереза! — запротестовал Дарий. К ней вернулась аристократическая надменность, и она гордо задрала подбородок, чтобы смотреть в лицо тюремщику. На Дария ни один из них внимания не обращал.
— Я герцогиня дю Шен, — повторила она с ледяным спокойствием. — Я плюю на вашу революцию и ее кровавых собак. И я плюю на тебя.
Глаза Дария, хотя горели и слезились от напряжения, приспособились к свету фонаря. Он моргнул. Лицо надзирателя под копной дурно постриженных волос показалось знакомым. Одежда выглядела достоверно грязной, но там было что-то…
С бедра надзирателя подмигнул меч. Меч с крестообразной рукоятью.
— Обычно я не произвожу такого впечатления на женщин, — сказал Митос и перевел взгляд на Дария. — Я сожалею, что нарушаю такой занимательный вечер, но у нас нет времени для болтовни. Пошли.
— Что ты делаешь?
— На что это похоже? Пытаюсь спасти твою голову, будь ты проклят. Вероятно, половина бессмертных уже скачут подальше от Парижа. У меня для тебя есть лошадь снаружи. Давай…
— Кто ты, господин? — перебила Тереза. — Откуда ты здесь?