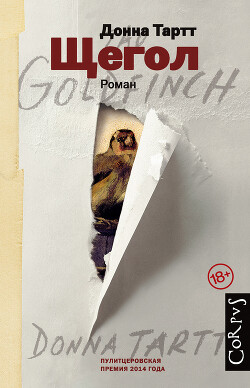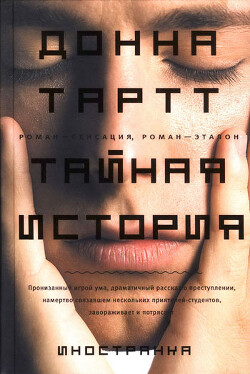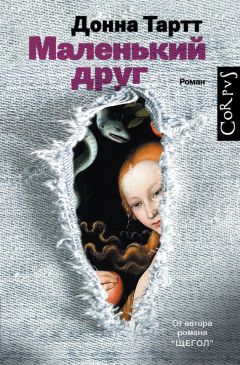— Тео, — сказала миссис Барбур, — хочешь чего-нибудь? Чаю? Чего покрепче?
— Нет, спасибо.
Она похлопала по парчовому покрывалу.
— Поди-ка, сядь рядышком. Пожалуйста. Хочу на тебя посмотреть.
— Я…
От ее тона, и официального, и сердечного, на меня нахлынула глубокая печаль, и когда мы глянули друг на друга, казалось, в ту же секунду все прошлое перетасовалось перед нами, заострилось, стало стеклянно-ясным, свилось в тишину дождливого весеннего вечера, темноту кресел в передней, легкость ее руки на моем затылке.
— Я так рада, что ты к нам зашел.
— Миссис Барбур, — сказал я, перебираясь на кровать, присаживаясь аккуратно, полубоком, — господи, я поверить не могу. Я только что узнал. Мне так жаль.
Она сжала губы, словно ребенок, который изо всех сил пытается не расплакаться.
— Да, — ответила она, — что ж. — И между нами повисла ужасная и словно бы несокрушимая тишина.
— Мне очень жаль, — повторил я с большим чувством и понял, до чего же это убого вышло, можно подумать, если скажу погромче, острота моего горя станет приметнее.
Она жалко заморгала. Я, не зная, как поступить, накрыл ее руку своей, и так мы с ней просидели до неуютного долго.
Наконец она нарушила молчание:
— Ну ладно. — Она решительно смахнула слезинку с ресниц, пока я лихорадочно подыскивал тему для разговора. — Он как раз о тебе вспоминал дня за три до смерти. Он собирался жениться. На японке.
— Да ладно. Правда? — было грустно, но от улыбки я не сумел удержаться: Энди выбрал вторым языком японский как раз потому, что западал на фансервисных мико и шлюховатых анимэшных девочек в матросках. — На японке из Японии?
— Именно. Крошечное такое существо с писклявым голоском и записной книжкой в виде чучелка. Да, мы с ней познакомились, — сказала она, приподняв бровь, — пили чай с сэндвичами у «Пьера», Энди переводил. Она, конечно, была на похоронах, эта девочка — ее зовут Мияко, — вот так. Другая культура, конечно, и все такое прочее, но вот уж правду говорят, что японцы очень сдержанные.
Маленькая Клементина всползла миссис Барбур на шею и свернулась там, как меховой воротник.
— Знаешь, я подумываю третью завести, — сказала она, поглаживая собаку. — Что скажешь?
— Не знаю, — растерявшись, ответил я.
Так это было не похоже на миссис Барбур — спрашивать у кого-нибудь совета хоть по какому вопросу, а уж у меня — тем более.
— Признаюсь, эта парочка стала мне большим утешением. Через неделю после похорон моя старая подруга, Мария Мерседес де ла Перейра, вдруг приносит их мне — двух щенков в корзинке с ленточками, я поначалу засомневалась, но теперь понимаю, что в жизни не получала более уместного подарка. Мы собак никогда не держали, из-за Энди. Он был страшным аллергиком. Ну, ты помнишь.
— Помню.
Вернулся Платт, по-прежнему в этом своем егерском пиджаке, с огромными отвисшими карманами — как раз для подстреленных птиц да пустых гильз. Пододвинул к нам стул.
— Ну что, мам, — сказал он, прикусывая нижнюю губу.
— Ну что, Платиновый, — натянутое молчание. — Как на работе? Все удачно?
— Да, отлично, — он закивал, будто сам себя в этом пытался убедить. — Да. Дел по горло.
— Рада слышать.
— Книжки новые. Одна про Венский конгресс.
— Еще одна? — она обернулась ко мне. — А что у тебя, Тео?
— Простите?
Я разглядывал костяную пластинку (с китобойным судном), врезанную в крышку ее корзинки для рукоделия и думал про беднягу Энди: черная вода, соль в горле, тошнота, судороги. Весь ужас и жестокость смерти в самой ненавистной ему стихии. Проблема, по сути, заключается в том, что я не выношу яхт.
— Расскажи-ка, чем ты сейчас занимаешься?
— Ээ, торгую антиквариатом. В основном американской мебелью.
— Правда? — она засияла от восторга. — До чего же прекрасно!
— Да, в Виллидж. Я управляющий в магазине и еще занимаюсь продажами. Мой деловой партнер, — мне еще было в новинку так называть его, — мой деловой партнер, Джеймс Хобарт, он работает по дереву, занимается реставрацией. Вы загляните к нам как-нибудь.
— Ох, превосходно. Антиквариат! — она вздохнула. — Ну, ты сам знаешь, до чего я люблю всю эту старину. Всегда хотела, чтобы и дети этим заинтересовались. Надеялась, что хоть кто-то.
— Ну, есть еще Китси, — сказал Платт.
— До чего же занятно, — продолжила миссис Барбур, словно бы не слыша Платта, — ни у кого из моих детей нет художественной жилки. Маленькие филистеры, все четверо.
— Ой, ну ладно вам, — сказал я так шутливо, как только сумел. — Я же помню эти бесконечные уроки фортепьяно у Тодди и Китси. И Энди с этой его игрой на скрипке по Судзуки.
Она махнула рукой:
— Ой, ты же понимаешь, о чем я. Ни у кого из детей не развито зрительное восприятие. Они ни картину не могут оценить по-настоящему, ни интерьер. А вот ты, — она снова взяла меня за руку, — когда ты был маленьким, я вечно заставала тебя в передней за разглядыванием моих картин. Ты шел прямиком к самым лучшим. К пейзажу Фредерика Черча, к моим Фитц Генри Лейну и Рафаэлю Пилу или к той картине Джона Синглтона Копли — помнишь, миниатюрный овальный портретик, девочка в шляпке?
— Так это был Копли?
— Копли. А только что ты разглядывал набросочек Рембрандта.
— Так это настоящий Рембрандт?
— Да. Один-единственный, омовение ног. Остальные — ученики. А мои собственные дети всю жизнь прожили среди этих картин и не выказали ни капли к ним интереса, верно ведь, Платт?
— Я предпочитаю думать, что мы зато во многом другом отличились.
Я кашлянул.
— Знаете, я правда всего-то забежал поздороваться, — сказал я. — Я очень рад был с вами повидаться, с вами обоими, — я обернулся, чтобы к Платту это тоже относилось, — жаль, что встретились мы при таких грустных обстоятельствах.
— Может, останешься, поужинаешь с нами?
— Простите, — сказал я, чувствуя, что меня прижимают к стенке, — не могу, именно сегодня — никак не могу. Но мне правда очень хотелось к вам заскочить, повидаться.
— Тогда ты придешь к нам как-нибудь на ужин? Или на обед? Или на пару стаканчиков? — она рассмеялась. — Или на что угодно?
— Конечно, поужинаем.
Она подставила мне щеку для поцелуя, чего никогда не делала, когда я был маленьким — даже с собственными детьми.
— Как же чудесно, что ты снова у нас, — сказала она, схватив меня за руку, прижав ее к щеке. — Как в старые добрые времена.
4
Возле двери Платт отколол какое-то чудное рукопожатие — так то ли бандиты здороваются, то ли члены студенческого братства, то ли глухонемые, и я даже не знал, как реагировать. Смешавшись, я отдернул руку и, не зная, что бы еще сделать, чувствуя себя идиотом, стукнулся с ним кулаками.
— Ну, слушай. Здорово, что мы встретились, — сказал я, нарушив неловкое молчание. — Звони тогда.
— Насчет ужина? А, да. Дома тогда, наверное, и поедим, если ты не против, мама теперь не очень любит куда-то выходить, — он засунул руки в карманы пиджака, и вдруг — как гром среди ясного неба: — Я тут в последнее время частенько вижу твоего старого дружка Кейбла. Куда чаще, чем мне хотелось бы, сказать по правде. Захочет узнать, наверное, что я тебя видел.
— Тома Кейбла? — недоверчиво рассмеялся я, хотя смех вышел жиденький, от дурных воспоминаний о том, как нас вместе отстранили от занятий и как он слился, когда мама умерла, мне до сих пор делалось не по себе. — Так вы с ним общаетесь? — спросил я, когда Платт ничего не ответил. — А я о Томе годами не вспоминал.
Платт ухмыльнулся.
— Признаюсь, я тогда думал — вот чудеса, дружок этого парня водится с таким задротом, как Энди, — тихонько сказал, привалившись к дверному косяку. — Не то чтоб я возражал, правда. Энди надо было, чтоб его кто-нибудь встряхнул, накурил, что-то в этом роде.
Эндрот. Андроид. Битые яйца. Прыщедав. Губка Боб Ссаные Штаны.
— Нет? — небрежно уточнил Платт, ошибочно истолковав мой застывший взгляд. — А я думал, ты этим баловался. Кейбл-то тогда дул по-черному.