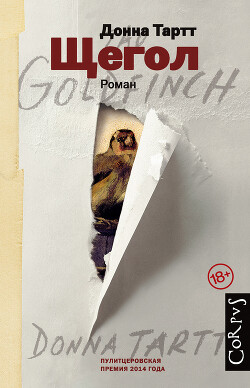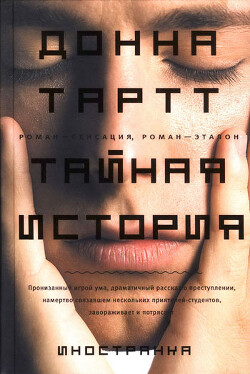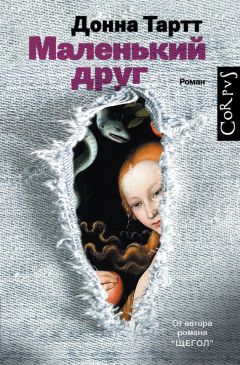— Это уже, наверное, после того как я уехал.
— Ну, быть может. — Не очень мне понравилось, как Платт на меня поглядел. — Мама, конечно, всегда думала, что ты и какаешь фиалками, но я-то знал, что вы с Кейблом приятели. А Кейбл был ворьем малолетним, — он резко, так, что в звуке ожил прежний мерзкий Платт, рассмеялся. — Я сказал Китси и Тодди, пусть запирают комнаты, пока ты у нас живешь, чтоб ты ничего не украл.
— Так вот в чем было дело? — Я сто лет уже не вспоминал про тот случай с копилкой.
— Ну, послушай. Все-таки Кейбл, — он поглядел в потолок. — Понимаешь, я встречался с сестрой Тома, Джои — господи боже, тоже еще та была штучка.
— Точно, — я прекрасно помнил Джои Кейбл — сисястую шестнадцатилетку, которая в коридоре хэмптонского дома шастала в коротенькой футболке и черных стрингах мимо двенадцатилетнего меня.
— Сучечка Джо! А какая жопа у нее была, а? А помнишь, как она тогда голышом разгуливала возле джакузи? Ну ладно, короче, про Кейбла. В Хэмптоне, у папы в клубе, его застукали, когда он рылся по шкафчикам в мужской раздевалке, и лет ему тогда было двенадцать-тринадцать. Это тоже все было после твоего отъезда, а?
— Скорее всего.
— И такие вещи происходили в нескольких тамошних клубах. Например, во время крупных соревнований или типа того — он, значит, залезал в раздевалку и тащил все, что плохо лежало. Потом, может, это он уже в колледже был — черт, где же это было, не в Мейдстоуне, а… Ну да ладно, в общем, Кейбл летом устроился подрабатывать в бар при гольф-клубе, развозил домой старичков, которые перебрали и рулить не могли. Общительный такой парень, разговорчивый — ну, сам знаешь. Разведет старичков на военные байки, все такое. Сигаретку им прикурит, над их шуточками посмеется. Да вот только случалось так, что доведет он дедулю до двери, а на следующий день тот обнаруживает, что у него бумажник пропал.
— Ну, мы с ним уже много лет не виделись, — сухо сказал я. Не нравился мне Платтов тон. — Чем он, кстати, сейчас занимается?
— Ну, знаешь. Промышляет тем же, что и раньше. Кстати, он с сестрой моей иногда видится, хотя, будь моя воля, я б ей запретил. Короче, — сказал он, слегка сменив тон, — я тут стою и тебя задерживаю. Жду не дождусь, когда расскажу про тебя Тодди и Китси, особенно Тодди. Ты на него произвел впечатление, он то и дело тебя вспоминает. Он будет в городе на следующих выходных, уж точно захочет с тобой повидаться.
5
Я не стал брать такси и пошел пешком, чтобы голова прояснилась. Был свежий сырой весенний день, грозовые облака расчерчены решеткой света, толкутся на пешеходных переходах офисные работники, но для меня весна в Нью-Йорке была навеки отравлена, пробивалось вместе с нарциссами сезонное эхо маминой смерти — набухающие почки и брызги крови, тонкая поросль галлюцинаций и ужасов. («Прикол! Ваще!» — как сказала бы Ксандра.) А теперь, после новостей про Энди, как будто кто-то перещелкнул рентген, и все обернулось в фото-негатив, так что смотрел я на нарциссы, на людей, выгуливающих собак, и свистящих на углах регулировщиков, а видел только смерть: запружены мертвецами тротуары, трупы вываливаются из автобусов и спешат с работы домой, через сотню лет ничего от них не останется, кроме пломб и кардиостимуляторов, ну может, еще пара клочков ткани, осколок кости.
В голове не укладывается. Я тысячу раз собирался позвонить Энди и не звонил только потому, что мне делалось стыдно; да, правда, я не общался ни с кем из прежних знакомых, но то и дело пересекался с народом из моей старой школы, а наша с ним однокашница Мартина Лихтблау (с которой в прошлом году у меня был короткий неважнецкий романчик, в сумме — три раза перепихнулись по-тихому на диване-раскладушке), так вот, Мартина Лихтблау рассказывала мне про Энди — он теперь в Массачусетсе, а вы с ним как, общаетесь? Да-да, все такой же страшенный гик, только он теперь это так выпячивает, что выходит даже, знаешь, стильно так, типа ретро. Очки с толстенными стеклами. Оранжевые вельветовые штаны и стрижка, как шлем Дарта Вейдера.
Вот это Энди, с нежностью подумал я, покачал головой, потянулся через голое Мартинино плечо за ее сигаретами. Хорошо бы с ним встретиться, жаль, что он сейчас не в Нью-Йорке, может, на праздниках как-нибудь позвоню ему, когда он домой приедет.
Да так и не позвонил. Из-за моей паранойи на Фейсбуке меня не было, новости я читал редко, но все равно непонятно было, как же это так получилось, что я не знал ничего — разве что в последнее время я так переживал из-за магазина, что ни о чем другом не мог и думать. За выручку нам, кстати, переживать не надо было — деньги мы чуть ли не лопатой гребли, в самом буквальном смысле, их было столько, что Хоби, объявив меня своим спасителем (он был на грани банкротства), настоял на том, чтоб я стал его деловым партнером, чего мне, в сложившихся обстоятельствах, не слишком-то хотелось.
Но все мои старания отговорить его от этой затеи только привели к тому, что он еще сильнее захотел взять меня в долю, и чем больше я отказывался, тем больше он настаивал; с типичным для него великодушием все мои увертки он списывал на мою «скромность», хотя на самом-то деле боялся я того, что наше партнерство, скажем так, официально высветит кое-какие дела, которые творятся в магазине не совсем официально, дела, только узнай о которых Хоби — беднягу пробрало бы аж до самых подошв его ботинок от Джона Лобба. Но Хоби ничего не знал. О том, что я намеренно сбыл клиенту подделку, клиент это вычислил и закатил скандал.
Я был совсем не прочь вернуть деньги, по правде сказать, это и было единственным выходом — выкупить подделку по убыточной для нас цене. В прошлом это всегда срабатывало. Я выдавал серьезно отреставрированные или просто наново собранные вещи за оригиналы; если же коллекционер приносил покупку домой из полумрака «Хобарта и Блэквелла» и видел, что с ней что-то не так («Всегда носи с собой карманный фонарик, — еще давным-давно наставлял меня Хоби, — не просто так в антикварных магазинах всегда темно»), я, страшно сожалея, что произошло какое-то недоразумение, но твердо стоя на своем — мебель, мол, подлинная, — галантно предлагал выкупить ее за цену на десять процентов больше уплаченной коллекционером и оформить это как обычную сделку купли-продажи. Я сразу представал славным парнем, который абсолютно уверен в подлинности своего товара и готов дойти до абсурда, лишь бы клиент был доволен, поэтому чаще всего клиенты успокаивались и оставляли покупку себе. Но было три-четыре случая, когда недоверчивый коллекционер принимал мое предложение — не понимая, что подделка, переходя от него ко мне по цене, явно говорящей о ее подлинности, в один день обзаводилась провенансом. Она возвращалась ко мне с набором документов, которые подтверждали — предмет мебели был частью коллекции знаменитого мистера такого-то. Несмотря на то что я выкупал подделку у мистера такого-то (в идеале — у актера или модельера, которые сами не были известными коллекционерами, для которых антиквариат был простым увлечением) себе в убыток, я тотчас же мог развернуться и продать ее заново и втридорога какому-нибудь лоху с Уолл-стрит, который не мог отличить «чиппендейл» от «Этана Аллена», зато прыгал от восторга при виде официальной бумажки, подтверждающей, что его секретер или что угодно работы Дункана Файфа ранее находился в коллекции мистера имярека, известного общественного деятеля/ дизайнера интерьеров/ звезды Бродвея/ нужное подчеркнуть.
И до сих пор это прокатывало. Да только на этот раз мистер имярек — в нашем случае прожженный гомик с Верхнего Ист-Сайда по имени Люциус Рив — на это не купился. Больше всего меня беспокоило то, что он думал: а) его развели намеренно — что правда, то правда, и б) что всю эту аферу продумал и провернул Хоби, что, конечно, было полной чушью. Когда я попытался спасти ситуацию, свалив всю вину на себя — кхм, кхм, право же, сэр, я просто недопонял Хоби, я еще новичок в этом деле, вы уж не держите на меня зла, он ведь такой искусный мастер, что недолго и запутаться, верно ведь, — мистер Рив («Просто Люциус»), дорого одетый персонаж неопределенного возраста и рода занятий, был неумолим.