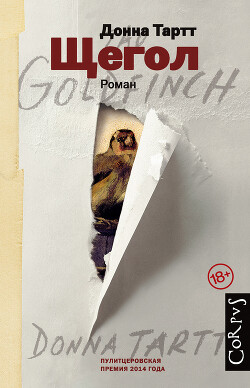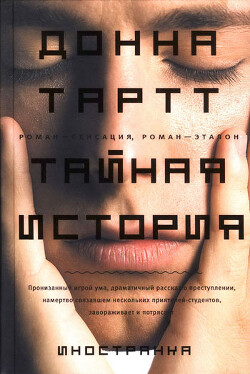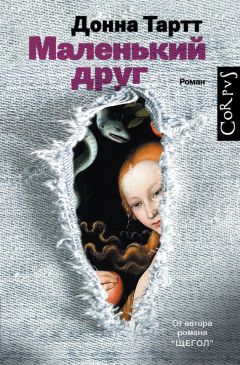Мои, как звал их Джером, «таблетосы» я хранил в старой табачной жестянке. Я раскрошил на мраморной столешнице трюмо припрятанную таблетку олдскульного оксиконтина, расчертил ее членской карточкой «Кристис», разровнял полосочки, потом, свернув трубочкой самую хрусткую банкноту из кошелька, пригнулся к столу — заслезились от предвкушения глаза: рванул взрыв, бабах, осела горечь на гортани, и — шквал облегчения, славный привычный удар под дых, до самого сердца, и я валюсь на кровать: чистое наслаждение, саднящее, ясное и такое далекое от жестяного перезвона невзгод.
7
В тот вечер, когда я шел на ужин к Барбурам, разразилась гроза, хлестал дождь и поднялся такой ветер, что я с трудом удерживал зонт над головой. На Шестой авеню ни одного такси не поймаешь, пешеходы, втянув головы в плечи, проталкиваются сквозь косые струи дождя; в метро на платформе влажно и сыро, как в бункере, капли монотонно шлепаются с бетонного потолка.
Когда я вышел из метро, на Лексингтон-авеню было пусто, капли дождя иголочками отскакивали от тротуаров, уличный шум от ливня, казалось, только усилился. Мимо, в грохочущих брызгах воды, проносились такси. Через пару домов от станции был магазинчик, куда я заскочил, чтоб купить цветов — лилии, три ветки, а то одна слишком уж тоненькая; в крохотном жарко натопленном помещении аромат их показался мне отвратительным, и я понял, в чем дело, когда уже расплачивался: так же тошнотворно, болезненно-приторно пахло на поминальной службе по маме. Когда я оттуда выбежал и свернул в залитый водой переулок, ведущий к Парк-авеню — в ботинках чавкает, по лицу молотит холодный дождь, — то пожалел, что вообще купил эти цветы, и хотел уж было зашвырнуть их в урну, да только дождь хлестал так яростно, что я даже на секунду не решился притормозить и помчался дальше.
Пока я топтался в коридоре — волосы прилипли ко лбу, якобы непромокаемый плащ промок так, будто я его выполоскал в ванной — дверь неожиданно распахнул здоровяк с открытым лицом, студент, в котором я через секунду-другую опознал Тодди. Не успел я извиниться за то, что с меня льет ручьями, как он крепко обнял меня, похлопав по спине.
— Вот это да, — говорил он, провожая меня в гостиную, — давай-ка сюда свой плащ — ага, и цветы тоже, маме они очень понравятся. Круто, что мы встретились! Сколько лет-то прошло? — Он был покрупнее, порумянее Платта, блондин, но потемнее, чем все Барбуры, картонного такого оттенка, и улыбка у него была тоже небарбуровская — ясная, широкая, без намека на ироническую ухмылку.
— Да… — От его радушия, будто бы опиравшегося на былую близость, которой и в помине не было, мне сделалось неловко. — Да, столько лет. Ты уже в колледже, верно?
— Да, в Джорджтауне, приехал вот на выходные. Изучаю политологию, но, по правде говоря, думаю, освоить управление некоммерческими организациями, знаешь, что-нибудь связанное с подростками. — По его широченной, профсоюзной улыбке сразу было видно — у этого Барбура большое будущее, какое пророчили когда-то Платту. — И вот что, уж не сочти за бред, но отчасти за это мне тебя надо благодарить.
— За что?
— Ну, за это. За то, что я решил работать с неблагополучными подростками. Знаешь, ты произвел на меня сильное впечатление, когда жил у нас тогда. Эта твоя история — у меня просто глаза открылись. Я классе в третьем был, что ли, но ты заставил меня задуматься — решить, что, когда вырасту, буду помогать неблагополучным детям.
— Ого, — сказал я, еще не переварив вот это, про неблагополучных. — Хм. Круто.
— И знаешь, это по-настоящему здорово, потому что мы стольким можем помочь нуждающимся подросткам. Не знаю, был ли ты в Вашингтоне, но там столько нищих районов, я сейчас вписался добровольцем в один соцпроект, учу детей из проблемных семей чтению и математике, а летом поеду на Гаити вместе с «Хабитат фо Хьюманити».
— Он пришел? — Чинный перестук каблуков по паркету, легкое прикосновение к рукаву, и вот уже меня обнимает Китси, а я улыбаюсь в ее до белизны светлые волосы.
— Господи, да ты до нитки промок, — говорила она, ухватив меня за плечи, чуть отодвинув от себя. — Посмотри на себя. Ты как сюда добирался? Вплавь?
У нее был изящный длинный нос миссис Барбур и ее же чистейшие, прозрачные чуть ли не до полоумия глаза — такие же, как у той взъерошенной девятилетки в школьной форме, которая, раскрасневшись, путалась в лямках рюкзака — только теперь она глянула на меня, и от того, в какую она выросла холодную бесстрастную красавицу, я потерял дар речи.
— Я… — Чтобы скрыть замешательство, я оглянулся на Тодди, который занялся плащом и цветами. — Извини, просто все так странно. То есть — ну вот с тобой особенно. (Говорю я Тодди.) Тебе сколько было, когда мы в последний раз виделись? Семь? Восемь?
— Понимаю тебя, — сказала Китси, — этот крысенок теперь себя прямо как человек ведет, верно? Платт, — наспех выбритый Платт в грубом донегалевом свитере и твидовом костюме ввалился в гостиную, словно рыбак-нелюдим из пьесы Синга, — где она хочет ужинать?
— Хммм, — он, казалось, смутился, потер щетинистую щеку, — вообще-то прямо там, у нее. Ты ведь не против? — спросил он меня. — Этта накрыла там стол.
Китси наморщила лобик.
— Ох, надо же. Хотя, наверное, ничего страшного. Давай тогда, унеси собак на кухню, ладно? Идем-ка, — она ухватила меня за руку, дернула за собой шальным, порывистым, кренящим движением, — организуем тебе выпивку, не повредит.
Было что-то от Энди в ее немигающем взгляде, в ее прерывистом дыхании — будто бы его вечно раскрытый из-за астмы рот вдруг чудесным образом преобразился в ее полуоткрытые губы, хрипотцу старлетки. — Я-то надеялась, что она усадит нас в столовой или хотя бы на кухне, у нее в берлоге так уныло… Что будешь пить? — спросила она, повернувшись к бутылкам в буфете, где уже были выставлены бокалы и ведерко со льдом.
— Не отказался бы вот от той «Столичной». Со льдом, пожалуйста.
— Правда? И нормально будет? Мы такое вообще не пьем… папа вечно такое вот, — она потрясла бутылкой водки, — заказывал, потому что ему этикетка нравилась… В духе холодной войны… Как-как ты это произносишь?
— «Столичная».
— Оч-чень по-русски. Даже не попытаюсь повторить. Знаешь, — сказала она, оборотив на меня свой крыжовенно-серый взгляд, — я боялась, что ты не придешь.
— Ну, погода-то не настолько плохая.
— Да, но… — ресницы хлоп-хлоп, — я думала, ты нас ненавидишь.
— Ненавижу вас? Нет.
— Нет? — Я зачарованно глядел, как вместе с ее смехом лейкемическая блеклость Энди преображалась, раскрашивалась в бело-розовое сияние диснеевской принцессы. — Но я так мерзко себя вела!
— Да я не расстраивался.
— Ну хорошо. — После долгого молчания она занялась бутылками. — Мы ужасно с тобой обращались, — произнесла она безучастно, — мы с Тоддом.
— Да ну брось. Вы просто маленькие еще были.
— Да, но, — она прикусила нижнюю губку, — мы все прекрасно понимали. Да еще после того, что с тобой случилось. А теперь… Ну, теперь, когда папа и Энди…
Я ждал, она вроде все пыталась выразить какую-то мысль, но вместо этого просто глотнула вина (белого, Пиппа предпочитала красное), тронула меня за запястье.
— Мама тебя ждет не дождется, — сказала она. — Целый день места себе не находит от волнения. Пойдем?
— Конечно, — легонько-легонько я взял ее под локоток, как это обычно проделывал мистер Барбур с гостями «прекрасного полу», и повел ее по коридору.
8
Тот вечер раскрошился в полуявь из прошлого и будущего: мир детства в чем-то чудесным образом уцелел, в чем-то — трагически переменился, словно бы Дух Прошедшего Рождества и Дух Рождества Грядущего вместе дирижировали этим ужином. Но несмотря на то, что отсутствие Энди то и дело вылезало уродливой прогалиной (А мы с Энди… Помнишь, когда Энди?..) и все кругом стало таким странным, таким измельчавшим (ужинать мясными пирогами с раскладного столика в комнате миссис Барбур?!), страннее всего было то, что у меня глубоко в жилах, вопреки здравому смыслу, засело чувство, будто я вернулся домой. Даже Этта, когда я заскочил на кухню с ней поздороваться, сбросила фартук и кинулась меня обнимать: На вечер-то меня отпустили, но я уж осталась, так хотелось тебя увидеть.