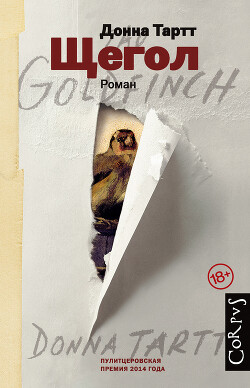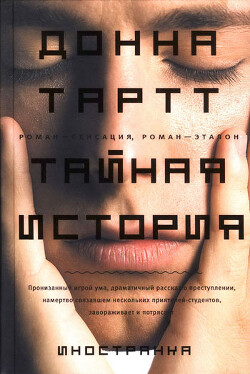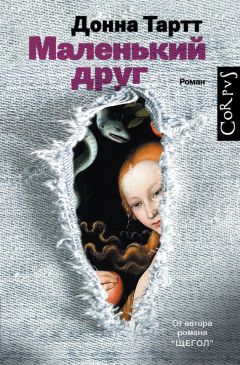Тодди («Нет уж, пожалуйста, Тодд») дорос до отцовского, капитанского, места за столом и поддерживал застольную беседу хоть и с несколько заученным, но явно искренним радушием, хотя миссис Барбур не особо-то и хотелось говорить с кем-то, кроме меня — немного об Энди, но в основном о семейной мебели: кое-что они заказывали в сороковых годах у Израэля Сака, но большая часть обстановки переходила по наследству еще с колониальных времен — посреди ужина она вдруг встала, ухватив меня за руку, повела показывать стулья и туалетный столик красного дерева — стиль королевы Анны, из Салема, Массачусетс, — в семье ее матери они были с 1760-х годов. (Из Салема, думал я. Жгли ли ведьм эти Фиппы, ее предки? Или сами занимались колдовством? За вычетом Энди — закрытого, от всех обособленного, неспособного на вранье, не имевшего ни харизмы, ни капли злобы, — было во всех остальных Барбурах, даже в Тодде, что-то жутковатое, какой-то чуткий, лукавый сплав озорства и приличий, а потому легко было вообразить, как их прародители собирались в лесу по ночам, скидывали свои пуританские одежки и давай резвиться у языческого костра.) С Китси я разговаривал мало — да и как, миссис Барбур поговорить не давала, но всякий раз, взглянув в ее сторону, я видел, что она смотрит на меня. Платт, подосипший с пяти (шести) добрых стаканов джина с лаймом, после ужина оттащил меня в сторонку от бара и сказал:
— Она на антидепрессантах.
— А? — переспросил я, растерявшись.
— Китси то есть. Мама-то о них и слышать не желает.
— Ну, — от того, что он говорил полушепотом, мне сделалось неловко, он будто спрашивал моего мнения или ждал от меня какой-то поддержки, — надеюсь, в ее случае они сработают получше, чем в моем.
Платт открыл было рот, но, похоже, решил ничего не говорить.
— А-а, — он слегка отодвинулся, — ну, она-то вроде справляется. Но ей тяжко пришлось. Китс больше всех любила Энди с папой, а с Энди у них так и вовсе были самые близкие отношения.
— Правда? — в детстве я бы не назвал их отношения «близкими», хотя Китси в отличие от братьев обычно держалась в сторонке, разве что ныла и дразнилась.
Платт вздохнул — парами джина меня чуть не сшибло с ног.
— Ну да. Она сейчас взяла академ в Веллсли, раздумывает, возвращаться ли — может, запишется на какие-нибудь курсы при Новой школе, может, на работу устроится, — после всего этого ей в Массачусетсе несладко. Они в Кеймбридже часто виделись, и она, конечно, жутко переживает из-за того, что не поехала тогда к папе. Она-то с ним лучше всех нас управлялась, но ее позвали на вечеринку, она позвонила Энди и уломала его поехать вместо нее… ну и вот.
— Ох ты. — Я в ужасе застыл возле бара со щипцами для льда в руках, стало нехорошо, едва представил, как другой человек изводит себя теми же «Ну почему же я не?..» и «Если бы я только…», которыми я себе испортил жизнь.
— Ага, — сказал Платт, плеснув себе еще щедрую порцию джина, — такая вот беда.
— Не стоит ей себя винить. Не нужно этого. Это ж глупо. Ну, то есть, — сказал я, разнервничавшись от водянистого цепкого взгляда, которым Платт уставился на меня поверх стакана, — если б она была там, то она бы и утонула вместо него.
— Не утонула бы, — отозвался Платт безжизненным голосом. — Китс — заправский морячок. Отличные рефлексы, она еще крохой была, а головы не теряла. Энди… Энди вечно думал про всякие орбитальные резонансы, про вычислительную хрень, которую он дома фигачил на ноутбуке, случись что — и он сразу начинал трепыхаться. Обосраться до чего типично. Ну и, в общем, — спокойно продолжил он, будто и не заметив, до чего меня поразили эти его слова, — сейчас она слегка в раздрае, сам понимаешь. Ты ее в ресторан позвал бы, то-сё, мамочка будет прыгать от счастья.
9
Когда я вышел, уже ближе к полуночи, дождь перестал, стеклянно блестели мокрые улицы, и ночной швейцар Кеннет (все те же опухшие веки, перегар от виски, в талии раздался, а так — без перемен) дежурил у двери.
— Ну, заглядывай, — сказал он, то же самое он всегда говорил, когда я был маленьким и мама забирала меня от Энди — тот же тягучий голос, теперь, правда, еще медленнее.
Легко можно было представить, как, например, в задымленном постапокалиптичном Манхэттене он покачивается себе добродушно, стоя возле двери в заношенной до дыр форме, и как Барбуры у себя в квартире жгут старые номера «Нейшнл Джеографикс», чтобы согреться, и живут на джине и крабовых консервах.
Смерть Энди, хоть и расползлась по всему вечеру побулькивающим ядом, все равно не умещалась в голове — странно, правда, было и то, что, если вдуматься, его смерть всегда была неизбежной, до глупого предсказуемой, словно бы в нем с рождения был какой-то роковой изъян. Даже когда Энди — мечтательному, спотыкающемуся, безнадежному астматику — было всего шесть, над его тощей фигуркой уже заметно расползалось пятно невзгод и ранней смерти, которым он был помечен, как будто значком «пни меня», пришпиленным ему на спину свыше.
И до чего примечательно, как охромел без него его мир. Странно, думал я, отпрыгивая от несшегося по бордюру потока воды, как все может измениться за каких-нибудь несколько часов — или, вернее, как странно, что в настоящем может застрять такой яркий осколок прошлого, разбитый, разломанный, но так и не сгинувший до конца. Энди был ко мне добр, когда у меня больше никого не было. И я по меньшей мере мог отплатить добротой его матери и сестре. Сейчас-то я это понимаю, а тогда мне это и в голову не приходило, что я годами не вылезал из своего кокона горя и самокопания, и за этой своей аномией, за ступором, апатией, замкнутостью и сердечными терзаниями я упустил множество повседневных, маленьких, незаметных проявлений доброты; и даже само это слово, доброта, напоминало выход из комы, от гудения датчиков — в больничную явь голосов и людей.
10
Хоть я и употреблял наркотики через день, я все равно был наркоманом, особенно, как часто напоминал мне Джером, потому что не слишком придерживался вот этого «через».
В Нью-Йорке меня ежедневно подстерегали кошмары вроде «толпа-подземка»; внезапность взрыва меня так и не отпускала, я вечно ждал, вот-вот что-то случится, высматривал это «что-то» уголком глаза, какие-то группы людей в общественных местах могли спровоцировать эту военную тревогу, кто-то вдруг слишком резко меня обгонит, неправильно повернувшись, проскочит быстро мимо — а у меня уже тахикардия и пульс зашкаливает от паники, да так, что приходится плестись, спотыкаясь, до ближайшей скамейки; и отцовские обезболивающие, которыми я поначалу глушил эту практически неконтролируемую тревожность, стали таким чудесным спасением, что вскоре я стал себя ими баловать: сначала только по выходным, потом — после учебы, потом я стал проваливаться в урчащее, эфирное забытье всякий раз, когда мне было скучно или тоскливо (что, к сожалению, бывало довольно часто), а потом я совершил потрясающее открытие — оказывается, крохотные пилюльки, на которые я и внимания не обращал, потому что они были такие мелкие и незначительные, на самом-то деле были реально раз в десять сильнее всяких там викодинов и перкоцетов, которые я жрал уже горстями — это был оксиконтин, по 80 мг в дозе, от которой с непривычки и коньки можно было откинуть, но к тому времени это уже было не про меня; и наконец, как раз перед тем, как мне исполнилось восемнадцать — мой, по виду бездонный, запас таблеток иссяк, и мне пришлось покупать их на улицах. Даже дилеры осуждали мои расходы — тысячи и тысячи долларов каждые две-три недели; Джек (предшественник Джерома) без конца мне за это выговаривал, и неважно, что при этом он, сидя в бесформенном кресле, из которого он рулил всеми своими делами, пересчитывал мои свеженькие, прямиком из банка, сотенные. «Да ты, братан, щас от них все равно что прикурил». Героин был дешевле — по пятнадцать баксов за пакетик. Я не ширялся, но Джек все равно старательно прикинул мои расходы на обертке из-под бигмака — затраты на героин будут значительно скромнее, в районе четырехсот пятидесяти долларов в месяц.