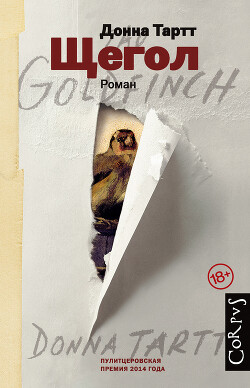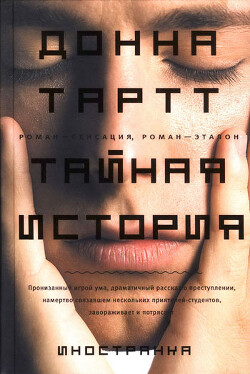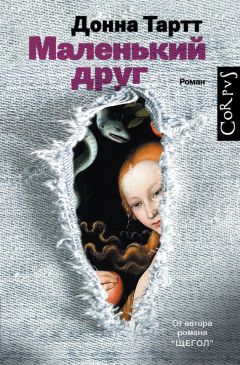— Тео, ты чудо что такое. В своем деле ты гений, тут уж никаких сомнений. Но, — он снова замешкался, я так и чувствовал, как он подыскивает верные слова, — понимаешь, торговцев кормит их репутация. Мы за все ручаемся собственной честью. И ты сам это знаешь. Поползет слушок. Так что, — он окунул кисточку в краску, близоруко щурясь, оглядел комод, — доказать, что ты смошенничал, будет непросто, но если ты сам не примешь никаких мер, эта история наверняка где-нибудь нам аукнется. — Рука у него не дрогнула, кисть двигалась четко. — Когда мебель серьезно отреставрировали… да никаких флуоресцентных ламп не надо, стоит ее кому передвинуть в ярко освещенную комнату, и сам удивишься… даже камера может высветить разницу в зерне, которую не углядеть невооруженным глазом. Если кто-нибудь сфотографирует такую мебель или, не дай бог, решит выставить ее в «Кристис» или «Сотбис» на аукционе по продаже шедевров американской мебели…
Наступила тишина, которая все ширилась и ширилась между нами, делалась все серьезнее, все нерушимее.
— Тео, — кисть замерла, потом ожила снова, — я не ищу тебе оправданий, но… Ты не думай, я прекрасно понимаю, что это именно я поставил тебя в такое положение. Бросил тебя в магазине без присмотра. Ждал, что ты сотворишь чудо умножения хлебов и рыб. Да, ты еще очень юн, — сухо прибавил он, снова полуотвернувшись, когда я попытался его перебить, — да-да, и ты очень-очень талантливо управляешься с той работой, которой я заниматься не желаю, и ты с таким блеском вытащил нас из финансовой ямы, что меня очень-очень устраивало держать, как страусу, голову в песке. Не думать о том, что там творится в магазине. Так что я в этом виноват не меньше твоего.
— Хоби, клянусь, я никогда…
— Потому что, — он взял початую банку с краской, поглядел на этикетку, будто не мог припомнить, зачем это нужно, поставил банку на место, — все ведь было слишком хорошо, чтоб быть правдой, верно? Какие деньжищи нам привалили, как замечательно! И что, я стал разбираться, откуда они взялись? Нет. Ты не думай, будто я не понимаю, что если б ты не проворачивал эти свои дела в магазине, эту мастерскую мы сейчас снимали бы, а сами искали себе другое жилье. Поэтому вот что — начнем все заново, с чистого листа — и будь что будет. Будем выкупать предмет за предметом. Больше нам ничего не остается.
— Послушай, я хочу, чтоб все было предельно ясно. — Меня задело его спокойствие. — Вина полностью лежит на мне. Если уж до этого дойдет. Просто хочу, чтоб ты это знал.
— Конечно. — Кисточка мелькала с такой отточенной, продуманной сноровкой, что это даже слегка пугало. — И все-таки, давай-ка на сегодня с этим закончим, хорошо? Нет, — я хотел было еще что-то сказать, — прошу тебя. Я хочу, чтобы ты с этим разобрался, я тебе во всем постараюсь помочь, если вдруг будет что-то совсем сложное, но больше — больше я не хочу об этом разговаривать. Договорились?
За окном — дождь. В подвале было зябко — неуютный подземельный холодок. Я смотрел на него, не зная, что сказать, что сделать.
— Прошу тебя. Я не сержусь, просто хочу все это переварить. Все будет хорошо. А теперь, пожалуйста, иди наверх, хорошо? — попросил он, потому что я так и застыл на одном месте. — Я тут как раз подобрался к трудному участку, мне нужно сосредоточиться, чтобы все не запороть.
17
Я молча поднялся наверх по оглушительно скрипящим ступеням, прошел мимо снимков Пиппы, на которые я не мог и глаз поднять. Когда я шел к Хоби, то думал, что сначала выложу ему новости попроще, а уж потом перейду к гвоздю программы. Но так и не смог этого сделать, хоть и чувствовал себя мерзким предателем. Чем меньше Хоби будет знать про картину, тем целее будет. Его нельзя в это втягивать, на то нет ни одной причины.
Но как мне хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, с кем-нибудь, кому я мог довериться. Раз в пару лет в новостях проскакивало что-нибудь об украденных шедеврах искусства — вместе с моим «Щеглом» и двумя позаимствованными из музея Ван дер Летами поминали обычно какие-то бесценные образцы средневекового искусства и несколько египетских древностей, ученые писали статьи и даже книги на эту тему, сообщали, что на сайте ФБР эта кража входила в десяток самых крупных преступлений в области искусства; до нынешнего дня меня здорово обнадеживала общепринятая точка зрения — мол, кто спер двух Ван дер Астов из залов 29 и 30, тот и мою картину украл. В зале 32 почти все трупы лежали рядом с обвалившимся проходом, по словам следователей, притолока рухнула секунд через десять, ну, может, тридцать после взрыва — несколько человек как раз успели бы выскочить. Все обломки и мусор в зале 32 в белых перчатках просеяли сквозь ситечко, с фанатическим тщанием прочесали грабельками — и хотя раму нашли, нетронутую (и так и повесили, пустую, на стене в гаагском Маурицхёйсе, «как напоминание о невосполнимой утрате частицы нашего культурного наследия»), ни одного кусочка картины так и не было обнаружено, ни единой щепочки, ни одного обломка старинного гвоздя, ни чешуйки характерной свинцово-оловянной краски.
Но картина была написана на деревянной доске, а потому можно было предположить (и один трепливый модный историк на это прямо напирал, за что я ему был крайне признателен), что «Щегла» вышибло из рамы ровнехонько в страшный пожар, бушевавший в сувенирной лавке, в самый центр взрыва. Я видел этого историка в передаче по каналу PBS, он с многозначительным видом расхаживал туда-сюда мимо пустой рамы в Маурицхёйсе, косил в камеру натренированным медийным глазом. «Эта крошечная картина уцелела после порохового взрыва в Дельфте — и несколько веков спустя была-таки уничтожена во время еще одного, устроенного людьми взрыва — невероятнейший сюжет, словно вышедший из-под пера О’Генри или Ги де Мопассана».
Что до меня, так по официальной версии событий — ее перепечатали везде и считали достоверной, — когда взорвалась бомба, я был от «Щегла» далеко, совсем в другом зале. За эти годы несколько писателей пытались взять у меня интервью, но я всем отказывал, но куча свидетелей видела мою маму в зале 24 в последние минуты ее жизни — красивую брюнетку в атласном тренче, и многие из этих свидетелей помнили, что я был вместе с ней. В зале 24 погибло трое взрослых и четверо детей — согласно газетной, общепринятой версии, я просто лежал там же, без сознания — просто еще одно тело на полу, и в суматохе меня никто не заметил.
Но кольцо Велти было вещественным доказательством того, где я был на самом деле. К счастью, Хоби не слишком любил разговаривать о смерти Велти, но, бывало, и его — нечасто, обычно ближе к ночи, после пары стаканчиков — пробивало на воспоминания. «Представляешь, что я тогда почувствовал?.. Ну не чудо ли, что?..» Когда-нибудь кто-нибудь просто должен был связать эти два факта. Я это всегда понимал и все равно плыл себе по течению в наркотическом дурмане и годами даже не задумывался об опасности. Да никто и внимания не обратит. Да никто и не узнает.
Я сидел на краешке кровати, глядел в окно на Десятую улицу — люди идут домой с работы, люди идут ужинать, всплески пронзительного смеха. За окном, в белом круге света от фонаря косо моросит мглистый дождик. Все казалось неровным, дрожащим. Мне до смерти хотелось закинуться таблеточной, и я думал было налить себе выпить, как вдруг — как раз за кругом фонарного света, врозь с обычным пешеходным потоком — я заметил человека, который стоял под дождем — неподвижно, одиноко.
Прошло где-то с полминуты, он так и не двинулся с места. Я выключил лампу и подошел к окну. В ответ на это фигура тоже отошла подальше от фонаря, лица я в темноте разобрать не мог, но самого его разглядел неплохо: сутулый, голова втянута в плечи, короткие ноги, бочкообразная, как у ирландца, грудь. Джинсы, толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки. Какое-то время он так и стоял там, не двигаясь — на этой улице, в этот час пролетарский силуэт выделяется из толпы модно одетых парочек, ассистентов фотографов, оживленных студентов, разбегающихся по ресторанам. Потом он развернулся. Уходил с торопливой спешностью, вот он попал в круг света от следующего фонаря, и я увидел, как он роется в карманах, набирает номер на мобильнике, пригнув голову, о чем-то раздумывая.