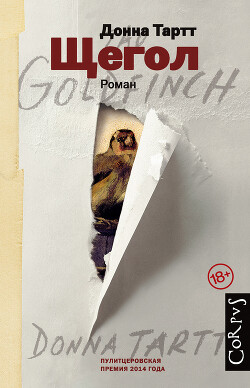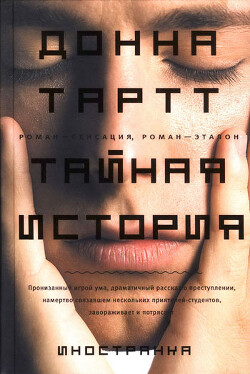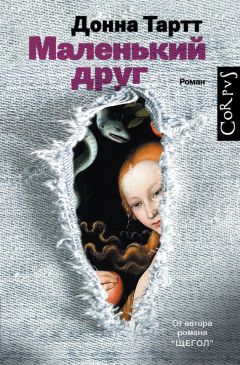Я отпустил занавеску. Я был почти уверен, мне мерещится всякое — да, по правде сказать, мне вечно что-то мерещилось, из этого отчасти складывалась жизнь в современном мегаполисе — из полузаметных кристалликов беды и несчастья, зашедшегося сердца от сработавшей в машине сигнализации, ожидания беды, запаха дыма, всплеска разбитого стекла. И все-таки — как бы мне хотелось быть на сто процентов уверенным в том, что все это — плод моего воображения.
Стояла мертвая тишина. Сквозь кружево занавесок расползался паутинками по стенам свет фонарей. Я ведь всегда понимал, что нельзя было оставлять картину у себя — и все равно оставил. Ничем хорошим это кончиться не могло. И мне от этого не было никакой пользы, никакого удовольствия. Когда я жил в Вегасе, то мог глядеть на нее, сколько захочу, — когда болел, когда тосковал, когда хотел спать, рано утром и посреди ночи, осенью, летом, при любой погоде, при любом освещении — разную. Одно дело — посмотреть картину в музее, но глядеть на нее сквозь такое обилие света, и чувств, и времен года означало тысячу разных способов ее увидеть, и держать ее во тьме, вещь, созданную из света, живущую только на свету, было до того неправильно, что до конца и не объяснишь. Да какое там неправильно, просто глупо.
На кухне я накидал льда в стакан, поставил его на стойку, налил водки, вернулся к себе, вытащил айфон из кармана пиджака и — машинально набрав первые три цифры Джеромова пейджера — нажал отбой и вместо этого набрал номер Барбуров.
Трубку взяла Этта.
— Тео! — радостно воскликнула она, на заднем фоне бормотал телевизор. — Ты с Кэтрин хотел поговорить?
Только родственники и близкие друзья Китси могли звать ее Китси, для всех остальных она была Кэтрин.
— Она дома?
— Придет поздно вечером. Знаю, что она очень ждет твоего звонка.
— Угу, — несмотря ни на что, мне было приятно, — скажешь ей, что я звонил?
— А когда ты к нам снова зайдешь?
— Да, надеюсь, скоро. А Платт дома?
— Нет, тоже нет. Я обязательно передам, что ты звонил. Ты уж к нам приходи поскорее, ладно?
Я повесил трубку, сел на кровать, отпил водки. Как-то обнадеживало, что в случае чего я могу позвонить Платту — нет, не насчет картины, уж не настолько я ему доверял, а насчет Рива с его комодом. О нем Рив, кстати, ни слова не сказал — дурной знак.
А все-таки — ну что он мог мне сделать? Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что Рив сам себя обставил, перейдя в лобовую атаку. Ему-то какой смысл на меня заявлять в полицию из-за этой мебели? Он-то что выгадает, если меня арестуют, картину найдут и она навсегда уплывет у него из рук? Если же ему нужна картина, то ему ничего не остается, кроме как затаиться и ждать, пока я его к ней не приведу. Единственное, что мне тут было на руку — единственное, — так это то, что Рив не знал, где картина. Да пусть кого угодно мне на хвост посадит, но если я буду держаться подальше от хранилища, он ее ни за что не выследит.
Глава десятая
Идиот
1
— О, Тео, — сказала Китси как-то в пятницу вечером незадолго до Рождества, подцепив мамину сережку с изумрудом, подняв ее к свету. Мы с ней полдня прошатались по «Тиффани», выбирали серебро и фарфор, а теперь неспешно обедали у «Фреда». — Какие красивые! Только… — она нахмурила лобик.
— Что?
Было три часа дня, а в ресторане до сих пор битком, шумно. Когда она вышла позвонить, я вытащил из кармана сережки и выложил их на скатерть.
— Ну, я просто… думаю. — Она свела брови так, будто перед ней стояла пара туфель и она раздумывала — покупать или нет. — То есть… они потрясающие! Спасибо! Но… думаешь, они подойдут? Для церемонии?
— Ну, как хочешь, — сказал я, сделав большой глоток «Кровавой Мэри», чтобы скрыть недовольство и удивление.
— Потому что это ведь изумруды, — она приложила сережку к уху, скосила задумчиво глаза. — Я их обожаю! Но… — она снова подняла ее к свету, сережка сверкнула в льющемся с потолка сиянии, — изумруд не совсем мой камень. Мне кажется, резковаты будут, понимаешь? С белым-то? И с моей-то кожей? Болотная зелень! И маме зеленый не идет тоже.
— Как скажешь.
— Ну вот, теперь ты надулся.
— Не надулся.
— Надулся! Я тебя обидела!
— Да нет, я просто устал.
— Ты, похоже, совсем не в духе.
— Ну правда, Китси, я устал.
Мы прилагали героические усилия, чтоб найти квартиру — мучительное занятие, которое мы, впрочем, чаще всего сносили с улыбкой, хотя от голых стен и пустых комнат, где жили призраки чужих, брошенных жизней, (в меня) рикошетило тошными отголосками детства — от коробок с вещами, кухонных запахов, сумрачных, безжизненных спален, но более всего, от бившегося всюду какого-то зловещего механического гула, слышного (судя по всему) только мне, от шумного дыхания тревоги, которую риелторы, чьи голоса звонко отскакивали от полированных поверхностей, когда они щелкали выключателями и нахваливали кухонные приборы, никак не могли унять.
И с чего бы это? Не с каждой ведь из отсмотренных нами квартир жильцы съехали из-за какой-нибудь трагедии, как почему-то казалось мне. И то, что я повсюду чуял развод, разорение, болезнь и смерть, явно попахивало паранойей — да и вообще, как беды предыдущих жильцов, неважно, выдуманные ли, настоящие, могли навредить нам с Китси?
— Не падай духом, — говорил Хоби (который сам, как и я, очень трепетно относился к душам домов и предметов, эманациям времени). — Отнесись к этому как к работе. Представь, что надо перебрать ящик с кучей мелких деталек. Стиснешь зубы, поищешь — и как раз то, что надо, и найдется.
И он оказался прав. Я вел себя молодцом, как и она — вихрем проносясь по пустым квартирам, — по угрюмым довоенным постройкам, из которых еще не выветрился дух одиноких еврейских бабушек, по ледяным стеклянным уродствам, где я бы никогда не смог жить, потому что вечно чувствовал бы, что с улицы на меня через прицел смотрит снайпер. Но никто и не ждал, что искать квартиру будет легко и приятно.
По сравнению с этим мне казалось, что прогуляться с Китси до «Тиффани», чтоб составить для гостей список того, что мы хотим в подарок на свадьбу, будет плевым делом. Встретиться со свадебным консультантом, потыкать пальцем во все, что нам понравится, а потом рука об руку упорхнуть на рождественский ланч. И я совсем не ждал, что вместо этого с ужасом, наглухо выбитый из колеи, буду таскаться по чуть ли не самому переполненному магазину на Манхэттене в пятницу перед Рождеством: в лифтах давка, на лестницах давка, туристы идут косяками, витрины облеплены слоем в пять-шесть человек, которые ищут подарки и покупают часы, шарфы, сумочки, каретные часы, книжки по этикету и товары для дома непременно фирменного бирюзового цвета. Мы несколько часов наматывали круги по пятому этажу, а за нами по пятам таскалась свадебная консультантша, которая из кожи вон лезла, чтобы Безупречно Обслужить нас, чтобы мы могли сделать уверенный выбор, так что казалось даже, будто он нас преследует («Узор на сервизе должен отражать саму вашу суть как пары… это основополагающая деталь вашего стиля…»), пока Китси металась от одного набора к другому: с золотым ободком! нет, с голубым! так, стойте, а вот тот, первый, какой был? восьмиугольник — не слишком ли? А консультантша услужливо вклинивалась со своими толкованиями: урбанистическая геометрия… романтический цветочный принт… элегантная классика… шикарный шик… и, несмотря на то что я только и повторял: нормально, этот — отличный, и этот тоже, да мне оба нравятся, решай сама, Китс, консультантша все показывала и показывала нам наборы, явно желая, чтоб я как-то потверже определился, мягко растолковывая мне прелести каждого из них — вот тут позолота, а вот тут рамочки вручную отрисованы, а я только и делал, что прикусывал язык, чтоб не сказать всего, что думаю: да черт бы с ней, с тонкой работой, нет никакой разницы, выберет ли Китси узорчик икс или узорчик игрек, потому что по мне все они одинаковые: новенькие, незаманчивые, мертвые на ощупь, не говоря уж о стоимости: по восемьсот баксов за сделанную вчера тарелку? За одну тарелку? Да прекраснейший сервиз восемнадцатого века стоил в десять раз меньше, чем этот холодный, блестящий новодел.