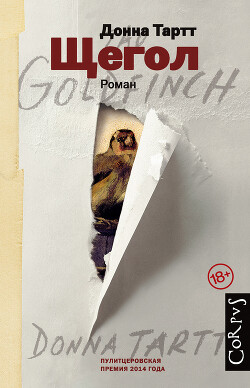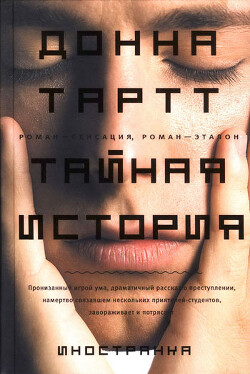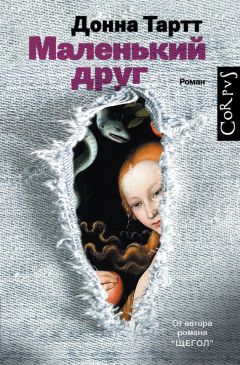Это она предложила пожениться. Мы с ней на вечеринку ехали. «Шанель № 19», голубенькое платье. Выходим на Парк-авеню — уже слегка навеселе от выпитых дома коктейлей — и ровно в этот момент вспыхнули все фонари, мы так и замерли, смотрим друг на друга — это что, это мы такое устроили? Было так смешно, что мы с ней оба зашлись в истерике от хохота — такое было чувство, что свет льется из нас, что мы с ней можем хоть всю Парк-авеню осветить.
И тут Китси ухватила меня за руку и сказала:
— Знаешь, что нам с тобой надо сделать, Тео?
И я тут же понял, что она хочет сказать.
— Уверена?
— Да, давай! А что? И мама будет просто счастлива.
Мы даже с датой еще не определились. Она все менялась — то церковь в этот день занята, то какой-нибудь гость, без которого никак нельзя обойтись, то у кого-то там важный турнир, или роды, или еще черт знает что. Вдруг все стали так носиться с этой свадьбой — сотни гостей, миллионные расходы, костюмы и постановка, как на Бродвее прямо — как наша свадьба вдруг раздулась до циркового представления, ума не приложу.
Я знал, что иногда в распоясавшейся свадьбе винить следует мать невесты, но к миссис Барбур это не относилось — ее теперь было не сдвинуть с места, от ее корзинки с рукоделием, на звонки она не отвечала, ничьих приглашений не принимала и даже к парикмахеру перестала ходить, это она-то, которая раньше к нему ходила раз в два дня, как часы, ровно в одиннадцать ноль-ноль, перед тем как отправиться с кем-нибудь обедать.
— Представляешь, как мама обрадуется? — прошептала Китси, пихнув меня под ребра острым локотком, когда мы с ней бросились обратно, в комнату миссис Барбур. И воспоминание о том, как обрадовалась новостям миссис Барбур (скажи ты, шептала Китси, если она это от тебя услышит, то вообще будет суперсчастлива), я потом снова и снова прокручивал в голове, никогда мне оно не надоедало: изумление в ее глазах, потом — прорывается, расцветает счастье на ее холодном, усталом лице. Она протянула одну руку мне, другую — Китси, но улыбка ее — до того прекрасная, никогда не забуду — была только, только для меня.
Откуда же мне было знать, что я кому-то могу принести столько счастья? Или что могу быть настолько счастлив сам? Я выстреливал чувствами, как из рогатки, мое сердце, запертое и обездвиженное на долгие годы, теперь описывало в груди круги, шмякаясь обо все, будто пчела под стеклом — все такое яркое, резкое, непонятное, неправильное, — но то была чистая боль, а не та тупая тоска, что изводила меня годами, когда я был на таблетках, будто гнилой зуб, муторная, дрянная резь чего-то порченого. Какая пьянящая это была ясность, я словно бы снял заляпанные очки, из-за которых у меня все плыло перед глазами. Все лето я провел как в угаре: наэлектризованный, ошалелый, возбужденный, я жил на одном джине с креветками да живительных чпоках теннисных мячиков. Только и думал, что о Китси, о Китси, о Китси!
Но вот прошло четыре месяца, на дворе был декабрь, по утрам морозец, рождественский перезвон в воздухе, а мы с Китси уже помолвлены и скоро поженимся, вот я везунчик, правда? Но хоть все и было даже слишком идеально — цветочки и сердечки хэппи-энд мюзикла, мне вдруг сделалось тошно. Отчего-то прилив энергии, на котором я бодро пробулькал все лето, в середине октября вдруг резко сплюнул меня в тоскливую изморось, которая тянулась во все стороны без конца и края: за редкими исключениями (Китси, Хоби, миссис Барбур) я почти никого не хотел видеть, не мог сосредоточиться ни на одном разговоре, не мог говорить с клиентами, не мог вести каталог, не мог ездить в метро — любая человеческая деятельность казалась мне бессмысленной, невразумительной, кишащим чернотой лесным муравейником, куда бы я ни глянул — нигде света ни на щелочку, антидепрессанты, которые я прилежно глотал два месяца, не помогли ни капли, и те, которые я глотал до них — тоже (впрочем, я ведь все их перепробовал, но, похоже, я входил в те двадцать процентов неудачников, которым вместо бабочек и лужаек с маргаритками доставались резкие головные боли и суицидальные мысли); и хотя тьма иногда разреживалась, ровно настолько, чтоб я мог врубиться, где нахожусь — уплотняются знакомые очертания, словно на рассвете мебель в спальне, — облегчение это всегда было временным, потому что отчего-то утро так никогда до конца и не наступало, не успевал я сориентироваться, как все гасло, мне плескало в глаза чернилами, и я снова принимался барахтаться в темноте.
И отчего я так расклеился — не знаю. Я так и не позабыл Пиппу и знал, что не позабыл ее и, может, никогда не позабуду, а значит, придется с этим так и жить дальше, с этой тоской неразделенной любви, правда, куда более насущной проблемой было еще и то, что меня до жути стремительно (как я, короче, считал) затягивало в водоворот общения. Кончились наши с Китси бодрящие вечера à deux [55], когда мы с ней держались за руки, сидя рядышком в полутемной кабинке ресторана. Вместо этого мы с ней почти каждый вечер ходили с кем-нибудь ужинать, теснились за столиками вместе с ее друзьями — мучительные процедуры, во время которых я (дерганый, трезвый, раздолбанный до последнего синапса) с трудом мог проявлять хоть какой-нибудь социальный пыл, особенно если к тому же устал после рабочего дня — а еще же приготовления к свадьбе, лавина мелочей, которыми я по идее должен был интересоваться с таким же жаром, как и она, яркий оберточный шквал брошюрок и товаров. Для нее это все было как полноценная работа: выбрать цветы и канцелярку, найти подходящее агентство и банкетную службу, поназаказать образцов ткани, коробочек с птифурами и кусочками тортов — на выбор, нервничать, то и дело просить, чтоб я помог ей выбрать между двумя абсолютно одинаковыми оттенками кремового или лавандового на цветовой шкале, организовать серию «девчоночьих» девичников для подружек невесты и «выходные с парнями» для меня (не Платт ли за это отвечает? В таком случае можно хоть не переживать, что останусь трезвым) — а потом еще со стопочками глянцевых буклетов продумать медовый месяц (Фиджи или Нантакет? Миконос или Капри?).
— Замечательно, — повторял я новообретенным, милым «голоском для Китси», — все просто здорово. — Хотя, если вспомнить, какие у ее семьи отношения с водой, странно, что не заинтересовали ни Вена, ни Париж, ни Прага, ни одно в общем-то место, которое не было бы — в самом буквальном смысле — островом посреди сраного океана.
Но при всем при том давно я так твердо не смотрел в будущее, а когда еще, довольно часто, кстати, напоминал себе, что иду верным курсом, то думал не только о Китси, но и о миссис Барбур, от чьего счастья я делался увереннее, живее в самых канальцах моего сердца, которое годами стояло начисто высушенным. От наших новостей она заметно посвежела, распрямилась — начала хлопотать по дому, зарозовела крошечной капелькой помады, и ее разговоры со мной — даже на самые заурядные темы — были расцвечены ровным, устойчивым, мирным светом, от которого ширилось пространство вокруг и который плавно пробирался в мои самые темные уголки.
— Я и не думала, что когда-нибудь снова буду такой счастливой, — тихонько призналась она мне как-то за ужином, когда Китси, как это с ней часто бывало, вдруг сорвалась с места и побежала отвечать на звонок, а мы с миссис Барбур остались за столом вдвоем, неловко ковыряя побеги спаржи и стейки из лосося. — Потому что ты всегда был так добр к Энди — подбадривал его, поднимал ему самооценку. С тобой он всегда раскрывался с лучшей стороны, всегда. И я так рада, что ты теперь официально станешь частью семьи, что теперь-то мы все узаконим, потому что — ох, может, этого и не надо говорить, но ты же не возражаешь, если я на минуточку скажу кое-что от чистого сердца — потому что я тебя всегда считала своим, знаешь? Даже когда ты был совсем маленьким.
Эти ее слова меня так поразили, так тронули, что отреагировал я страшно неуклюже — разволновавшись, стал заикаться, поэтому она надо мной сжалилась и перевела разговор в другое русло. Но стоило мне о нем вспомнить, и меня всякий раз обдавало сияющей теплотой. С не меньшим удовольствием (ну и пусть, что это стыдно) я вспоминал, как оскорбилась Пиппа, как потрясенно она смолкла, когда я по телефону сообщил ей новости.