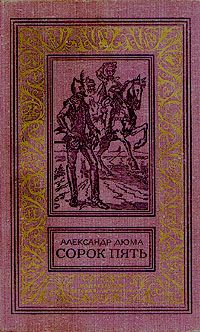Зашла старшая сестра Ирина Евгеньевна, сделала укол в плечо.
Константин Сергеевич дождался, когда закачает, отделился от себя и направился — это утро? сумерки? — в сторону какого-то дачного поселка. Заборы, кусты, туман. И вдруг шагах в пятнадцати от себя среди кустов он увидел маму, она в длинной белой больничной рубашке. Мама смотрит на него поверх кустов улыбчивым успокаивающим взглядом. Он хочет идти к ней, но она тихонько, вкрадчиво приставляет палец к губам, и ватно, как в кино при замедленной съемке, уходит за кусты. Он за ней. Понимает, что она убегает от него. Видит на размокшей лесной тропинке свежие следы от ее босых ног, в эти следы еще затекает обратно мутная вода. Впереди мелькнуло белое. Тяжело дышать, он побежал, нагнув голову и глядя на заплывающие водой, только что оставленные отпечатки.
Вдруг его вынесло на пахоту, и он упал, увязнув в глубокой сыроватой земле. За леском, оказывается, было поле. Упав, он видит перед лицом впечатанный в землю глубокий след босой ноги. Он вскакивает. Не поднимая головы, бежит по следам и вдруг видит, что они делаются мельче, бледнее, точно мама с каждым шагом своим становится легче. Слабее, мельче, бледнее… И вот следы обозначаются все менее различимо и, наконец, сходят на нет.
Посреди поля следы, никуда не сворачивая, бесследно исчезают. Он, тяжело дыша, озирается по сторонам и чувствуя, как холодный пот струится по спине, медленно, одеревенело поднимает голову в слепящее — до пустоты — небо…
Открылась дверь в палате.
— Ну, Костя, поехали, — сказала сестра Ирина Евгеньевна. И позвала головой в коридор. Константин взобрался на тележку, стоящую у дверей палаты. Какие-то слова говорил Николай Терентьевич. Пижаму и брюки Константина попросили снять, он подал их побледневшему Вадику.
У лестницы он увидел Свету, она стояла в белом халате внакидку. Света подбежала к нему, глаза ее страшно косили, как сегодня в довоенном дворе. Она схватила его за руку, ее оттащили, вывели из коридора.
На развилке возле туалета тележка не могла разъехаться с другой тележкой, которую везли к лифту из реанимационной. Тележку с Костей пришлось завезти в закуток. Но он ничего этого не видел, укол опять затуманил ему голову, просветы становились все реже. В какой-то момент он вдруг (это было еще в коридоре, как долго его везли!) приподнялся на локте и одними губами, беззвучно, стал звать своего зама Пестрякова; как же мы не доперли раньше… измени сегмент в светоделителе… опорный пучок, не будет залипать в зазоре… сегмент сегмент вот и вся доводка, сегмент вот и…
Белое стол капельница что-то укололо в запястье почувствовал ремни какой-то парень в халате привязывал ноги что-то кому-то говорит не то по-латыни не то…
а он не по фене ботает?
Внизу было матовое, ровное, и медленная тишина, и это удалялось, а наверху хлюпало что-то красное, пузырящееся, и его несло туда. Он перевернулся ногами вверх, и его отбросило обратно и, падая в лиловое, он вдруг удивился, что это тягучее жидкое зеркало, потому что со стенки податливо-уминавшейся воронки на него — нос к носу — дышало его собственное лицо. Отражение запотевало от его дыхания, и он резким круговым движением запястья протер перед собой ртутно расступающуюся массу. Но тут стекловидная масса под ним уплотнилась, вогнутая сфера распрямилась и исторгла его вон. Опять понесло его вверх, навстречу ревущему, красному, пузырящемуся.
Операционная сестра подошла с какой-то косынкой.
— Слышь, Олег, — говорила медсестра парню, который в ногах Константина Сергеевича затягивал ремни, крепил.
— Ну? — откликнулся тот, выбрав паузу. Он побагровел от натуги.
— Я говорю Сонька стерва все-таки. Я ж не в свою смену вышла, мне сегодня в шесть часов позвонили, уговорили. Сонька бюллетень взяла, слышь? Ха, ребенок у нее заболел, — ловко сняла рубаху с Константина Сергеевича, повязала косынку, поправила капельницу, все время поглядывая, не идет ли хирург Валентин Сергеевич. — Знаю я какой ребенок у нее заболел. Небось, опять ей Мишка морду набил, вот и не вышла. Слышь, Олег…
…по почему так бесцеремонно я еще не провалился я слышу морду стерва почему это может быть последнее что я услышу в этом об этом мире почему эта ругань а не
Ему показалось, что он разомкнул губы, чтобы сказать операционной сестре, что он прощает ее, и вдруг увидел склонившегося над собой хирурга в белой шапочке и с марлевой повязкой на лице. Тот сделал взмах рукой и произвел короткий тычок…
Константин Сергеевич вздрогнул, он посмотрел в глаза поверх повязки и узнал эту чернявенькую раскосость, этот прищур… «я тебя допорю»?..
…и тебя про… про… Мустафа проща… ю… потому что любить надо всех все от нелюбви все и ты прости Фарида и Конкин и ты вот вижу Костенька бежит ко мне катит железное колесо а сзади тебя бежит ко мне вместе со мной мама она так рада так рада и отец вдали стоит с остановившейся улыбкой рука неуклюже только легавая меня завидя лает на чужого и ты прости пес
— Костенька! — приговариваю, прижимаю к себе, — Костенька я старый видишь какой я кого ты носил в себе Костенька мальчик мой прости и ты меня прости
Последнее, что вспыхнуло, угасая, в его сознании — тот голубь, которого он уже вспоминал сегодня, — тот, что лежал у шпалы между рельсами, и вихрь и напор мчащегося вагона выпростал его примятое крыло, и теперь оба они, повинуясь аэроприроде своей, бились над недвижным телом в струях воздушного потока, вздымались и иногда в этом взмахе замирали, точно голубь с распростертыми крыльями был распят на невидимом кресте из воздуха.
А первое, что он увидел, когда через сутки приоткрыл глаза и все сразу про себя вспомнил, были длинные шнуры дренажей, отходившие от груди куда-то вверх, за спину, и сбоку над собой родной косящий взгляд на смутном Светином лице.