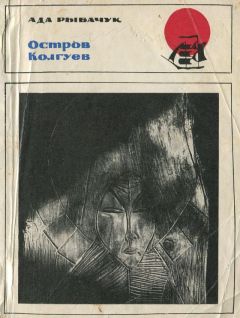За кухней следуют комнаты. Они выглядят чрезвычайно современно: кроме стола и табуреток — никакой мебели. Необходимость кочевать не позволяет обзаводиться громоздкими и лишними вещами — человек должен обходиться немногим, жить налегке. Вещи не должны лишать его свободы.
Сани, лодки и лыжи — другое дело, их можно иметь сколько угодно. Прислоненные к стенам домов, отбрасывают изломанные длинные тени — без этих теней невозможно представить себе поселок…
Хозяин и хозяйка очень сдержанно отвечают на наше приветствие.
У Нецька Саса этой выдержки пока явно нет.
— Ада, худо, Володя, худо! — много раз выкрикивает он.
Он совсем недавно усвоил наши имена. А до этого был убежден, что нас зовут одинаково — Худо.
Впрочем, по имени нас в поселке называют не очень часто и только в «официальных случаях». Чаще всего каждый из нас называется Рисуй-Нго-Да — Тот, Который Рисует.
Нецька Саса не слушает, что там вполголоса сердито говорит ему мать, и продолжает выражать свой восторг по поводу нашего прихода тем же способом — он выкрикивает все известные ему русские слова, среди которых Ада, Володя, худо, спасибо, пожа-луй-ста, бумгама — иначе слово «бумага» никак не говорится, — составляют едва ли не половину всего запаса.
Садимся ужинать и в который раз удивляемся, как мы все умещаемся вокруг маленького ненецкого столика — сантиметров восемнадцать высоты и площадью едва ли больше газетного листа.
Снова лай — еще гости: старший брат Нидане, его жена — бабушка Ольга, их дочь с меховой, стянутой ремнями на медных пряжках люлькой, в которой спит ребенок.
Долгий разговор о направлении ветра, о сетях, о морзвере, долгое чаепитие — это все прелюдия. Гости сегодня званы не для этого: Нидане кончила шить свою белую паницу.
Нидане любит похвалиться:
— Я все сама, все сама смотрю, у кого хороший узор — я перенимаю и еще сама что-нибудь придумываю.
Наконец все считают, что положенное на разговоры время истекло. Нидане выходит из дому — вся одежда находится в санях на улице или в холодной кладовке. Она возвращается, неся новую паницу «нутром» наверх, так, чтобы белого верха и узора не было видно — Нидане любит еще и эффекты.
Все мы сидим, как жюри в Доме моделей.
Переодевание происходит у нас на глазах. Набрасывая новую белую паницу поверх старой, когда-то темной, а теперь золотистой от ветра, Нидане проделывает это так ловко и быстро, что мы даже не успеваем заметить, какое у нее платье под паницей… Все это время Нидане стоит к нам спиной. Судя по тому, как оттопырились и изломались пустые рукава, она завязывает шнурки паницы (шнурки завязываются изнутри: снаружи на морозе это не всегда удалось бы сделать).
Потом она поворачивается. Черные блестящие волосы — темнее задымленных шкур — гладко и туго притянуты к голове, заплетены в черные тугие коски. Оттененное белым мехом лицо ровного темно-золотистого цвета. На совсем белых шкурах четко вырисовываются полосы узора — ветвистые рога большого вожака стада.
Фитили в лампах весь вечер никто не подкручивал — они дают все меньше света. В незавешенные окна (занавески с успехом заменяет толстый слой льда) проникает голубое мерцание снега — взошла луна. Нидане стоит между окнами. Белый мех с двух сторон очерчен легким голубоватым контуром. Медные полукруги ее серег не висят, а лежат на мехе высокого ворота.
Паницу осматривают придирчиво. Бабушка Ольга замечает, что сзади узор надо было бы… на полтора пальца ниже.
Я ношу паницу, сшитую Нидане, к ней и ее мужу мы чаще всего ходим в гости, к ней и ее мужу чаще всего идем за помощью. Но мы не рисовали ее. Не рисовали, честно говоря, опасаясь осложнений из-за несколько скандального ее характера.
Знакомство наше с Нидане началось именно с того, что она пришла к нам, и пришла как раз скандалить.
Володя тогда нарисовал и перед сеансом повесил в клубе большой рисунок, своего рода агитплакат: рядом с большой бутылкой спирта и его ценой была изображена женщина в панице, несущая обычный для острова пестрый мешок для продуктов или других товаров.
Не слишком твердо ступая, она тогда в первый раз пришла с претензией:
— Зачем меня нарисовал? Разве я только одна спирт покупаю?
Когда мы объяснили ей, что, конечно, не только она, но именно это и плохо, что, если бы только она, это было бы не так уж страшно, Нидане с еще большим возмущением и явным вызовом сказала:
— Но зачем тогда только меня нарисовал?
Выслушав снова все наши объяснения, что это не она, а, так сказать, собирательный образ, она выдвинула неопровержимое доказательство:
— Я бы, может, и поверила, что это не я, но ведь это же моя новая паница нарисована, и узор такой только я шью. — И она продолжает речитативом: — Будес смеяться, так рисовать будес — стрелять будес — ты мне брат и сестра будес, смеяться будес — мы на месте стрелять будем.
Вот так мы и познакомились.
…Просим рассказать сказку. Островные сказки — это часто отголоски сказок, которые вместе с людьми приплыли в карбасах из Большеземельской тундры, а иногда свои, родившиеся уже на острове из легенд и случаев островной жизни. Сказки хранят неясные, измененные временем образы истории народа, когда-то пришедшего в поисках пастбищ или по другим причинам сюда, к берегам холодных морей, и так и оставшегося здесь жить.
Бабушка Ольга говорит, закрыв глаза, по-ненецки; обычно ровный, почти на одной ноте гортанный говор сейчас очень богат оттенками: и без переводчика ясно — это говорит завывающая пурга, а это — шепотом — черная ночь.
Переводит Арка Саса. Нидане слушает очень внимательно и через несколько фраз с возмущением перебивает его, они начинают очень горячо по-ненецки спорить о тонкостях перевода. Они могут поссориться. Но Нидане оказывается, конечно, права; отстранив Арка Саса, она переводит дальше: «…И у сына Пурги была дочь с лицом, как утреннее солнце после длинной ночи…»
На остров привозят кинофильмы. С последним пароходом на зиму завозят около пятидесяти металлических коробок, содержимое которых пересматривается к весне по четвертому разу. Весной ленты смотрят иногда даже с конца. Островитяне очень любят ходить в кино. Нидане в определенном состоянии часто вслух комментирует происходящее на экране — иногда от этого оно становится значительно интереснее.
Вокруг здания клуба на снегу жмутся друг к другу собачьи упряжки, лежат олени пастушьих упряжек; к стенам клуба прислонены маленькие санки, чтобы отвезти домой заснувших ребят.
В «кинозале» сидят по росту и по возрасту. Впереди на полу еще не уснувшие дети; ребята постарше и старики сидят на лавках первых рядов. Заснувших малышей в люльках и малицах с рукавами такого покроя, чтобы у спящего ребенка не мерзли втянутые внутрь руки, складывают на шкуру за печкой — там они и посапывают все вместе.
В ответ на вопрос президента-киномеханика: «Сегодня давать фильм или сборник киножурналов?» — все дружно требуют сборник.
Фильмы «про любовь» не пользуются успехом — островитянам почему-то не нравится смотреть «про любовь» крупным планом, и они уходят, но вот фильмы про войну… Такие фильмы можно смотреть и смотреть.
Различается еще один тип фильмов — и хотя среди них есть и хорошие и плохие, они почти всегда непонятны и потому нелюбимы. «Главную улицу» Бардэма мы смотрели к концу сеанса вдвоем.
Эти-то «заграничные» фильмы и повлияли самым неожиданным образом на Ларчи, которой вдруг захотелось быть… Лючией или на худой конец Ларисой.
Работает Ларчи на звероферме, готовит корм и кормит голубых песцов. Клетки стоят на самом берегу моря, открытые отчаянным ветрам.
Ветер яростно треплет длинные неподобранные пряди черных волос Ларчи. Но ветер с полюса не ветер Средиземноморья… На обеденный перерыв она не прочь, спустившись к морю, побегать с распущенными волосами по берегу, по мокрой, заблестевшей полоске песка у самой волны.
А по вечерам… по вечерам Ларчи собирается в кино, как для выезда в свет.
Ларчи всего восемнадцать лет. Сильно подкрашенные глаза не портят ее — только делают похожей на театральную японскую маску; босоножки (ах, как они выглядят рядом с островной обувью из нерпичьих шкур) на высоких каблуках позволяют идти только по кладке — проспекту. Ларчи-Лючии хочется купаться и загорать. Она даже пыталась это делать в Баренцевом море в отливе и очень обиделась на Володю, когда он сказал, что для купания в этих широтах ей надо сшить купальник из нерпичьей шкуры. Ей хочется, чтобы дорки — моторые шлюпки, в которых возят и мешки с солью и бочки с керосином, — были если не яхтами, то хотя бы «прогулочными катерами»; хочется платье, оставляющее плечи открытыми «вот посюда», и туфли на «гвоздиках». Хочется рыжие волосы и звенящие браслеты и чтобы кто-нибудь заходил, возможно, заезжал за ней и провожал из кино… И чтобы транспорт был не собачьей упряжкой… Ей хочется собирать цветы. Она спрашивает: