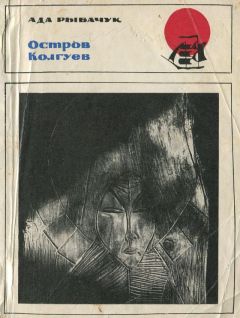— Теоретически мы должны простудиться, — говорит Володя и, взяв у совсем выбившегося из сил Хурка топор и остатки бревна, которые мы увезли с собой, делает костер.
Снова пьем горячую снеговую воду с сухарями — мы все больше хотим есть.
К утру мы останавливаемся на берегу речки со странным названием Мязь Буе Яха — Речка, На Которой Ветер Уносит Чумы. Эта речка не пугает нас своим безмолвием — она вскрылась. Полноводная река ревет и бурлит, образовывая водовороты у камней.
Хурк ищет брод.
Но попробуй найди брод у весенней речки! Хурк привязывает моих оленей к своим санкам — «только не боись, не боись, забоишься — забоятся олени», — мы съезжаем в воду. Вода выше копыльев, выше шкуры, вода по пояс… но мы переехали! Отряхиваемся, как олени; на том берегу остались Володя и Лапа.
Собака бросается в воду первой, ее сносит к камням. Хурк бежит по берегу: «Лапа, Лапа!» Лапу, отчаянно гребущего, уносит за сопку, за поворот реки.
Видя, как сильно снесло Лапу, Володины олени отказываются идти в воду, упрямо поворачивают вдоль берега.
Хурк бросает Володе через реку тынзей и через бурлящую реку объясняет Володе, как завязать аркан на шее у передового, чтобы веревка, за которую мы вдвоем будем тянуть, не задушила оленя.
Ненецкие узлы — это целая наука: по-разному вяжется веревка, если надо просто удержать оленя, и веревка, которой он привязан к нартам; узлы на клади саней отличаются от узлов на сплавляемых бревнах; узлы надо вязать правильно, во избежание разных неприятных случайностей.
Мы перетягиваем Володину упряжку через стремительные потоки ревущей весенней воды. Выжимаем меховую одежду, и Хурк, снова распустив оленей, идет к бывшему когда-то здесь стойбищу — может, остались дрова.
Возвращается с несколькими палочками, за ним ковыляет совсем промокший, с порезанными пальцами Лапа.
Снова костер — сушим одежду; но мешок с сухарями при переезде был вместе с санями под водой — вместо сухарей у нас с полмешка черного месива, пахнущего кислым.
Хурк ножом отрезает пант у одного из оленей, который покрепче, хлыщущий кровью отросток перевязывает веревочкой. Обчистив кожу с шерстью, обедает пантом. Мы не решаемся.
Мязь Буе Яха была началом такого трудного пути, что я уже не помню, сколько дней это продолжалось, сколько раз мы купались в холодных озерах, вытаскивая провалившуюся последнюю упряжку; чаще всего две упряжки лед выдерживал, третья проваливалась. В памяти осталось ощущение холодной воды, прилипающего к телу мокрого меха, радости, что мы снова на берегу. Через каждые три часа нужно было пасти, подкармливать оленей. Отдохнув, с трудом собрав их и двинувшись в путь, мы вскоре снова барахтались в очередном озере.
Мы обессилели, как олени, и засыпали прямо на мокрых шкурах.
— Теоретически мы должны уже умереть от воспаления легких, — говорит Володя.
Но по непонятным причинам ни у кого из нас нет даже насморка.
У нас есть только чувство голода: черная каша с кисловатым запахом, невкусная, но вполне съедобная, размокая все больше и больше, вытекает из мешка…
И вдруг мы увидели куропаток. Белых-белых, весенних — с красными бровями, черненькими пятнышками на крыльях и лохматыми лапками…
Хватаю мелкокалиберку — одна птица падает тут же, где стояла, а вторая улетает.
Полный презрения Хурк говорит:
— Сейчас еще и хвалиться начнет. Тоже — целится в самца…
Смотрю — действительно самец.
Если убить самку — она без красных гребешка и бровей, — самец никогда не покинет подругу, даже мертвую. Его легко убить вторым выстрелом.
— Иди ищи вторую пару, а я найду дров.
Ползу по снегу и по лужам, не выбирая сухих мест, и приношу пять куропаток; Володя уже выпряг оленей.
Сидя на сопке кружком, мы яростно ощипываем птиц. Варим куропаток в чайнике, едим, макая в золу — нет соли, — и засыпаем, впервые за несколько дней почти насытившись.
Путь, который зимой проделывают часов за двенадцать, мы прошли за девять дней. Нам встречался и туман с дождем. Хурк сбивался с дороги, мы спали на солнечном ветру и делили на всех остатки полусухой одежды. Добравшись все-таки до чума Уэско, мы проспали полтора дня. Нас не будили.
Когда мы, наконец, проснулись, старика не было в чуме.
Ненцы совершенно не выносят двух вопросов: «куда» и «сколько». Сколько убил нерп, сколько убил гусей, сколько родилось телят, сколько поймал дров — эти вопросы бестактны и недопустимы, на них всегда один ответ:
— Не знаю. Разве мы считаем.
Однако точно известно, сколько было нерп в унесенных морем капроновых сетях и сколько бревен из плота разбросал по морю ветер.
Мы только через пять лет узнали, что старик, беспокоясь, что мы не появились даже на пятый день, поехал нас искать — поехал другой дорогой, достиг места нашей эпопеи на Песчанке и оттуда уже отправился по нашим следам… Через пять лет при случае он до подробностей точно рассказал нам, где мы полоскали мешок от сухарей, а где разрывали мою куртку и ковбойку, чтобы обернуть ими ноги, потому что пимы у всех раскисли.
Середина июня. Некончающийся день.
— Даже уши болят! Куропатки орут, ручьи шумят, солнце светит, — говорит Хурк, жмуря покрасневшие веки.
День отличается от ночи тем, что ночью иногда стихает ветер. Тогда и в чуме слышны голоса ручьев и птиц.
Одуревшие от света и тепла птицы заняты только своей жизнью — их не стреляют даже, их ловят в капканы.
За важенками прыгают темные длинноногие неуклюжие телята. Прилетели и гнездятся гуси. Оттаивают болота и трава.
Никто не живет сейчас в чуме — все заняты охотой: женщины охотятся на куропаток, мужчины, охраняя стада от волков, бьют гусей.
Охотиться здесь так же естественно, как жить, но убивают только для еды, для одежды. Охота — труд, часто опасный.
В кажущемся бездействии островитяне могут терпеливо ждать нужного ветра, чтобы привезти, допустим, плот дров; ждут прилива, чтобы спустить на воду кунгас… Но что бы они ни делали: пилят ли дрова на берегу, вкатывают ли на высокий берег строительный лес или просто ждут — всегда поблизости лежат ружья.
Юноша ненец, работавший пекарем, жаловался, что ему «никак невозможно» на такой работе.
— Поставлю тесто — иду на охоту: гуси же летают! Вернусь с охоты — оно уже чуть ли не на пол убежало… Просто нервов моих не хватает…
В жизни перемежаются ожидание попутного ветра и ожидание сезона охоты с радостями охоты и ее опасностями.
Ловчее других ставит силки и капканы на куропатку мать Таули. Она всегда чем-то занята. Я не знаю, когда она спит. Сидя на сопке, в стороне от чумов, она всегда или шьет, или дробит выветренные оленьи кости, добывая из них костный жир. И только иногда, солнечной ночью идя за водой к ручью, старуха остановится, сядет. Закурит и долго-долго сидит, то ли отдыхая, то ли о чем-то думая…
Даже при свете солнца мне не удается рассмотреть черт ее темного лица.
Часто она всю ночь охотится.
Хурк посвящает нас в хитрости этой охоты:
— Бабушка все же старая, ей уже трудно стрелять. Она возьмет петуха — ну, кто-нибудь убил — и поставит его на палочке, под кочкой. Под самой высокой кочкой. Поставит, чтоб стоял, как живой, и голову ровно держал. Потом на кочке снимет мох до льда и поставит туда капкан и мхом прикроет. Потом отойдет в сторонку и тихонько сидит. И все.
— Как — все?
— Ну, петух будет лететь к своей курочке и увидит этого петуха. Он обязательно полетит к нему и будет с ним драться. И будет его побеждать. Палочку надо ставить крепко, чтоб мертвый петух не упал с первого раза. Живой петух налетит, будет перья у мертвого вырывать… Потом мертвый упадет. Тогда «победивший» петух обязательно прыгнет на эту высокую кочку, где капкан, — и тут он поймается.
— Почему прыгнет?
— Ну-у… Ты же в кино видел, как военные начальники всегда на больших таких вроде кочках стоят, так они… гордятся, вот и петух тоже, победит и прыгнет на высокую кочку — гордиться. И радоваться. И будет прыгать на кочке по-всякому. Капкан обязательно щелкнет. Тогда снова надо ставить мертвого петуха… К утру его и щипать не надо — петухи его совсем голым сделают. А вот гусей капканом не возьмешь…
Возле старой бабушки на сопке все-таки лежит дробовик — гуси так низко летают…
Солнечный круглосуточный день.
Мы пишем тающие снега на сопках, пишем Уэско, Таули, Иде по многу раз; мы ездим на озера охотиться и радостно ощущаем это оглушительное и гремящее звучание весенней, чуть оттаявшей земли.
Мы вернулись в поселок.
В поселке нас ждала телеграмма: «Защита 24 июня. В случае неявки к защите…»
Попробуй явись.
Иссякают запасы продуктов, в письмах не остается ни одного не запомнившегося еще слова.