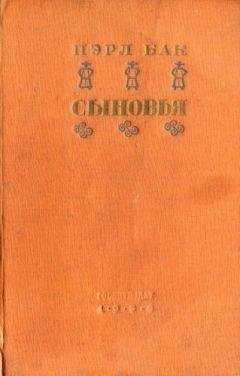Но главное даже не в том, что Григорий Евгеньевич научил ребятню играть в шары и обыграл их — это было весело и не обидно; главное, самое отрадное было в том, что учитель шел с синей, в клеточку тетрадкой помогать Василию Апостолу заводить учет добра в усадьбе, хотя Татьяна Петровна не пускала, очень сердилась, страшно кричала, что все бросит и уедет к матери. Григорий Евгеньевич не послушался. Она кричала-кричала и перестала и никуда не уехала… Да, вот как все вышло просто: он, Григорий Евгеньевич, посмотрел, как мужики и бабы тушили пожар в усадьбе, как потом дружно работали на пустыре, а он, гуляя, проходя мимо, сказал им: «Труд на пользу!» — и стал с ними заодно, как прежде. Ладно, может, не совсем заодно, стал не вместе, но как-то близко, почти рядышком, и Шурка больше не стыдился и не мучился за своего бога-учителя. К тому большому, новому, справедливому, что творилось на селе и в усадьбе, теперь прибавилось еще что-то несказанное, самое правильное и дорогое.
И сейчас, видя и слыша все это и переживая вновь, сильнее, чем было, он не мог удержаться от щекотного смешка, хихикнул, передернул лопатками от радости, потому что они, красная четверня, набив руку и навострив, нацелив глаз, обыграли-таки во второй «партии» Григория Евгеньевича и, став «разбойниками», загнали его черный шар в крапиву, в репейник, не пожалели, не смилостивились. И долго потом разыскивали шар в лопухах, вот как далеко улетел — знай наших.
Он бы еще посмеялся сейчас мысленно над Григорием Евгеньевичем, как смеялись-дразнились они тогда, но Яшка заговорил возмущенно-громко и вернул Шурку в ту жизнь, которой они жили нынче в Заполе.
— Глядите, кто-то сочил березы… Теперь засохнут… Ах, сволочи!
Шурка пришел в себя. Ватага продолжала торчать на концах Мошковых полос. Ослепительно белели вокруг березы. Они горели как свечи, прямые, светлого воска. Изумрудные языки пламени ветвей и макушек лизали высокое небо, и оно, загораясь, тоже становилось зеленым. Вовсю распевали звонкие разноголосые пичуги. Даже нарядная сойка, пролетая мимо, передразнивая соседей, кричала приятно-весело. И жуки и мухи жужжали, нашептывая на ухо что-то хорошенькое, и дальние стуки, скрипы вплетались в музыку леса и не мешали. На станции, на чугунке прогудел паровоз.
Все жило, насвистывало, шумело, сверкало, как ему положено.
И странно и больно, как-то непонятно и невозможно было видеть три березки с длинными косами и завитыми, курчавыми прическами, самые молодые, ободранными догола, дожелта. Они еще были живы, эти березки, мелко шелестели на ветерку крупными листьями в частых зубчиках. Но по лисьему пушистому мху валялись снежное лохмотье бересты и зеленовато-коричневые куски коры. вогнутые, как половники и четвертинки ломаных труб. И пахло уже внятно вялым свежим веником. Прямые, гладкие стволы по ребячий рост были старательно, досуха выскоблены. Молочно-сахарная, влажная пленка, находившаяся под корой, только что народившаяся, знакомая ребятам (что скрывать!), была съедена, по не вся: узкие полоски бересты, загибаясь желобками, тянулись сверху вниз.
— Разрази меня гром, работа Двухголового с Тихонями! — грохнул Колька Сморчок корзинку наземь, не пожалев Володькиного красавца-белого и собственного дождевика.
Шурка свистнул.
— Уважаемые граждане, что же это такое?!
— Ихние ножики, вострые, и рост ихний; эвон, до сучьев дотянулись, обжоры! — уличал возбужденно Андрейка Сибиряк.
— Они, они самые, кто же другой посмеет! Богатые, жадные… Им березок не жалко! — кричал криком Гошка.
Он, глазастый, поднял с травы окурок папиросы, короткий, закусанный и замусленный. Кто мог недавно курить тут настоящую папироску, затягиваясь, сжег до половины бумажный мундштук? Знать не перевелись, оказывается, «Дюшес» и «Тары-бары» в лавке Быкова.
Володька Горев оглядел остановившимися глазами березки, еле выговорил шепотом:
— Война… богачам!
— Да уж попадись они мне, изобью в кровь! — пообещал свирепо Петух.
— Война! Война! — твердили все, скрежеща зубами, потрясая палками и хлыстами. — Ну, погодите, фатер-мутер!
Война Двухголовому Олегу с Петькой и Митькой Тихонями была объявлена без промедлений, единогласно
Но три молодые березки ничего этого не могли уже знать, они умирали. Орава глядела на них, жалела и отводила поскорей глаза.
— Что ж, все равно засохнут, — пробормотал Шурка разрешая колебания и сомнения ватаги. — Давайте и мы…маненечко… посочим березки. Угостим Володю… А то он уедет к себе в Питер и не попробует… Нехорошо!
Всякое слово выговаривалось с трудом. Точно булыжины ворочал язык во рту. Шурка не глядел на приятелей. И они, слушая его, отворачивались, не отвечая, раскрывали ножи-складешки.
Срезали немного бересты и коры снизу, к корням, не трогая оставленных желобов, и поскоблили по старой памяти матово-сырую, пахнущую березой пленочку. Она собиралась на кончике ножика комочком, и сок стекал на подставленные ладони. Каждый поделился с питерщичком, у которого, как известно, не имелось складешка. В пересохших глотках некоторое время оставалась сладкая прохлада.
Напробовались и, торопясь, побежали прочь, оглядываясь (прощайте, березки, не поминайте лихом — мы за вас отомстим!), прислушиваясь к нараставшему издали стуку и грохоту, — там, где-то впереди, к станции, как бы валились с треском деревья.
Петух громогласно кукарекнул от догадки.
— Братцы, а ведь это крутовские или сломлинские мужики рубят барский сосняк!
И полез за ворот рубахи, вытащил из-под ремня грозный «Смит-вессон».
— Без дозволения!
Сразу все поняли, что надобно им делать, куда бежать и зачем.
Шурка поскорей спрятал за пазуху «Овода», затрепанного, пухлого.
Эх, придет времечко, придет желанное, и он сунет нос в эту питерскую, завлекательную, кажись, книженцию. Но сейчас не до нее.
К воротцам, скорей к воротцам! По изгороди, по канаве, тропкой, близехонько до барского леса…
И как только они, расставаясь с березами, птицами, змеями, цветами, помчались к воротцам, над их отчаянными головами взвилось победное красное знамя, сама собой запелась в душе питерская песенка, складно, легко, без Володиной подсказки. Боевое красное знамя, как в песне, сильней, чем в песне, пылало огненной кровью и звало на подвиги.
Этот переход из ребячьего царства в большой, взрослый мир до сих пор был нынче весной каким-то странным, немного неловким. Молодецкая совесть корила парнишек, не давая покоя, долбила им в бесшабашные головы одно неприятное, что они старались поскорей забыть. Каждый притворялся, будто не понимает долбежки, не чувствует ее и нет у него никаких укоров совести. Все они, парни, простодумцы, уж наполовину мужики, как давным-давно известно, и хорошо знают свои обязанности. Ну, забылись грехом чуть, гляди, как живо очухались, спохватились, летят домой, готовы до ночи таскать воду из колодца — два ведра на коромысло, одно в руке, как у Таси в усадьбе, готовы щепать лучину на самовар, раздувать его рваным сапогом, коли есть с чем пить чай, согласны нянчиться с маленькими, горластыми… Да что много толковать, лучина, ведра, братики и сестренки — все это, как пишется в книгах, было и быльем поросло. Полмужики умеют теперь пахать, боронить, сеять турнепс, чтобы топить Россию в молоке и, главное, чего нет важнее, дороже, торчать часами возле мужиков и баб, растопыря глаза, глядеть во все гляделки, слушать во все уши и даже умеют подавать одобрительный самозвон, коли требуется, если будет на то позволение, а то без позволения.
Но в душе, не распахнутой настежь, как постоянно, на все четыре света, захлопнутой наглухо, все ж таки шевелилась, не давала удальцам спуска обыкновенная стыдоба. Оттого им бывало не по себе, что оно, молодое складное мужичье, столько времени тратило попусту на забавы и ничегонеделание, тогда как ихние отцы и матери не знали роздыха, ломили, гнули спины в поле и по дому, по хозяйству и еще успевали — дивитесь и радуйтесь! — творить обеими руками, без устали, революцию в деревне.
И вот здесь совесть сразу замолкала. Пардон-с, вороти назад, держи около! На ретивого коня не кнут, а вожжи надобны. Понес, помчал баловень — вожжи натяни, намотай на кулаки, построже окрикни, перестанет озоровать конь, пойдет мерять холсты скорым шагом, как желательно ездоку. Не сосунок-стригун у тебя в тарантасе на железном ходу и не безгодовный мерин, запряжен двухлеток, веселая неуемная сила, это тоже надобно понимать. Все сказанное, конечно, присказка, присловье вроде Сморчихиного, тетеньки Любови Алексеевны.
Настоящий разговор, как сказка, будет впереди.
Не в чем укорять ребят, вот какое необыкновение получается. И молодое их царство всегда полным-полно этой самой революции. Новость, в общем, такая: переход в большой мир с некоторого времени совершался незаметно. Сказать кратко и начистоту — никакого перехода и не существовало, потому что ребята, как ихние матери и отцы, жили определенно одним и тем же.