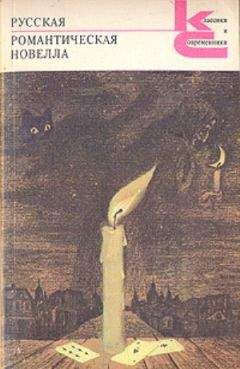— У Марьи Ивановны попросить.
— Я спрашивал. Она предлагает две юбки, только чтобы не резать и не протыкать. Я смотрел: юбки грязные.
— Нет, юбки нехорошо. Это — чепуха.
И одновременно нам обоим приходит в голову поистине гениальная мысль: обить косяки двери цветными носками! Небывало и очень оригинально.
Из ящика моего комода извлекается куча вязаных носков всех цветов и оттенков — работа моей матери. Иные заштопанные, другие рваные, но так еще лучше. Главное — чистота и яркость. У Мартынова запас немногим хуже. Кнопками и гвоздиками мы прикалываем носки к косякам двери, и получается как бы триумфальная арка. Над дверью водружается вензель Кати: большая коробка из-под гильз Катыка (на пятьсот штук), в прорезах букв красная бумага, внутри свечка. Мартынов делает это с замечательным искусством. Просто и эффектно.
Во всем, что относится к чествованию нашей королевы, Мартынов принимает живейшее участие и проявляет редкую изобретательность. На время работы исчезает его обычная мрачность. Им соорганизован и прорепетирован туш на гребешках с папиросной бумагой, им же написан ритуал приема, который присутствующие должны разучить. Долго приспосабливал он добытые на дворе плоские ящики, чтобы кресло королевы стояло на легком возвышении, — но из этого ничего не получилось, очень уж выходило неудобно королеве пить чай. Кате полагался особый прибор: вилка, ножик и салфетка; для всех остальных вместе — такой же один общий прибор, только без салфетки. Ради Кати Мартынов затратил два часа, чтобы вымыть водкой, карта за картой, засаленную колоду: после чаю мы, наверное, сядем играть в винт, кстати — королева обычно проигрывает, так что часть наших расходов по приему окупится.
В день приема королевы мы все в сборе: Мартынов, я, медик Ушаков, второкурсник-юрист Стигматов, мой земляк Павлик — студент Лесного института, большой весельчак, иногда еще кто-нибудь из тех, кого я возил к Кате знакомить. Ушаков уходил раньше других, Павлик, страшный картежник, оставался обычно ночевать, и пять партнеров для винта были обеспечены. После полуночи все мы проводим королеву до извозчика.
В нашу студенческую трущобу Катя вливалась как луч солнца. Если бы она, в своем самом простом платье и со своей самой лучшей, всегда несколько смущенной улыбкой, — если бы она только сияла, мы бы исчезали, как рассеянные тени и погашенные свечки. Но она не только сияла — она освещала. Комната становилась шире, потолок чище и выше, самоварная медь делалась таким же чистым золотом, как орленые пуговицы франтоватого Стигматова. Марья Ивановна, квартирная наша хозяйка, женщина беднейшая, кротчайшая и затрапезная, казалась теперь благородной фрейлиной, а все мы — советом мудрых вельмож и верноподданных.
Когда в дверях показывалась Катя, я подходил к ней первым и целовал ее, зная, что все эти юноши, мои гости, всматриваются и вслушиваются в поцелуй. Затем Катя, сняв длинную перчатку, очень приветливо здоровалась с Марьей Ивановной за руку, которую та спешно вытирала фартуком. С нею она задерживалась, в нашей крошечной передней, спрашивала ее о здоровье детей, кивала, слушая ее подробный доклад, давала советы: непременно промывать Ванюшке глаза борной кислотой и не позволять ему их тереть, а Анюту поить рыбьим жиром. Потом Катя повертывалась к моим немногочисленным гостям, толпившимся у двери, по-мужски пожимала им руки и не знала, что нужно говорить, заменяя слова своей чудесной улыбкой. Они подходили к ней в строгой очереди, Мартынов всегда последним, не глядя в глаза и мешковато шаркая ногой.
В эту минуту они не казались бедными студентами в поношенных тужурках, а были рыцарями в латах: грудь колесом, ноги стройны, головы с изящным нагибом. Впрочем, к Мартынову это не относится: он был скорее нашим дядькой.
Рыцари отнимали у Кати зонтик, перчатки, шляпу. Если шляпа доставалась Мартынову, он уносил ее обеими руками, как стеклянную, расставив локти, чтобы не задеть за стул, за косяк двери, украшенной носками, за кого-нибудь из нас. С момента прихода Кати Мартынов делался невменяемым и старался смотреть на самовар или на коробку килек, чтобы невзначай не встретиться с Катей глазами; если это все-таки случалось, — он мрачно краснел и еще пристальнее впивался взором в неодушевленные предметы.
Мой бедный Мартынов! Я думаю, что в этом мире только одна любовь могла соперничать с моей любовью к сестре: его бескорыстная и безнадежная любовь.
* * *
Пока Катя еще беседовала с хозяйкой, Мартынов успевал зажечь над дверью в моей комнате щит с инициалами и цветные фонарики по обе стороны престола королевы. Бородатый и неуклюжий, он делал это с озабоченным и взволнованным лицом.
Затем мы усаживали Катю за стол, становились на некотором расстоянии, и Павлик, торжественным и мощным голосом, начинал выработанный на этот день "ритуал приема королевы":
— Все ли вельможи, здесь предстоящие, признают себя подданными Екатерины?
Мы отвечали хором:
— Все!
— Каковы обязанности первого вельможи?
Я был "первым вельможей" и отвечал нараспев по мартыновской шпаргалке:
— Не брат, а раб!
— Каковы обязанности вельможи-хлебодара?
Тем же тоном отвечал медик Ушаков:
— Чаю ли возжаждет — чаю налей; кильку ли возалчет — препарируй.
— Каковы обязанности вельможи-кавалера?
Второкурсник Стигматов, очень красивый юноша, слегка рисуясь, произносил:
— Сознавать свое физическое безобразие и лежать ковриком на царственных путях.
— Каковы обязанности вельможи-звездочета?
В свою очередь, Мартынов, застенчиво и с тоской, бормотал библейский стих, им самим извлеченный из Книги Судей Израилевых:
— К ногам ее он склонился, пал, лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал, пораженный[17].
— Клянутся ли вельможи исполнить свои обязанности?
Мы протягивали руки и опять хором восклицали:
— Не нам, не нам, а имени твоему!
Катя весело смеялась; ей было приятно наше поклонение. Изобразив на гребешках туш или марш из "Аиды", мы вручали королеве знаки ее власти: чисто вымытый на этот случай мячик хозяйкиной девочки и огромный синий карандаш Мартынова — державу и скипетр.
Под влиянием ритуала мы долго болтали стилем напыщенным, священнодействуя над кильками и отдавая должное чайной колбасе. Хотя мы всегда усердно приглашали Марью Ивановну посидеть с нами, но она отговаривалась хлопотами с самоваром и только иногда присаживалась на стуле у самой двери и пристально смотрела на Катю, которая казалась ей, как была и для нас, подлинной королевой, посетившей лачугу бедноты.
И, конечно, ей никогда не могло бы прийти в голову, что эта королева в иную минуту жизни может завидовать ее бедности, миру и простоте ее семейной жизни.
Что мне делать с Мартыновым? Он пьет вторую неделю: как на грех получил от брата деньги сразу на два месяца вперед.
Пьет Мартынов водку, и пьет дома; никакой закуски ему не требуется. Нагрузившись, он поет "Благообразного Иосифа" или сам с собой разговаривает. Ночью трезвеет и в одной рубашке выходит во двор, гуляет, хотя но ночам холодно и сыро.
Уговаривать его бесполезно. Когда Мартынов пьян, он преисполнен презрения ко всем и ко всему. Прозрение ко мне он выражает тем, что, отворив дверь в мою комнату, показывает мне распухший язык, затем захлопывает дверь с нехорошим ругательством. Марья Ивановну боится показываться ему на глаза, хотя Мартынов очень редко скандалит "по-настоящему". Мария Ивановна его не осуждает и даже не протестует против такого поведения жильца: на нашей улице, полной притонов, смотрят на пьянство не как на порок, а как на несчастье, людям судьбою ниспосланное.
Как-то раз я задумал принять меры, отняв у Мартынова водку и деньги. Заглянув в его комнату, я увидал, что он спит лицом к стене. Я на цыпочках подобрался к его тужурке, но в ее карманах нашел только медную мелочь. Тогда я протянул руку к стоявшей на столе еще полной бутылке водки.
И вдруг он вскочил, будто этого только и ждал. Вскочил встрепанный и такой страшный, что я едва не уронил бутылку.
— Поставь обратно!
— Брось, Мартынов, не пей. На кого ты стал похож!
— Поставь бутылку!
Я, конечно, поставил.
Он взял бутылку и, смотря на меня пристально воспаленными глазами, стал пить из горлышка. Нужно было для этого запрокинуть голову, но он хотел смотреть на меня, на производимое впечатление, поэтому, булькая водкой, он постепенно приседал на корточки. Отпив несколько полных глотков, он обтерся рукавом рубашки и, сделав хитрое-хитрое лицо, очень трезвым, только хриплым голосом сказал:
— Красавец, ужели я вам не нравлюсь?
— Не нравишься, Мартынов.
— Тогда, красавец, пойдите вон.
Я двинулся к двери, но на ходу спросил: