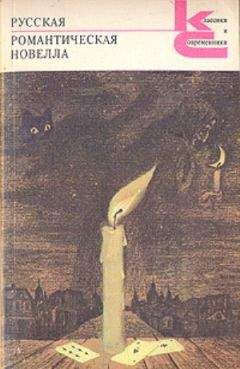— Вот ведь как тут хорошо и красиво. И на душе мир, и умирать не хочется.
Никогда не говорил Мартынов таких слов и таким особенным тоном! Я покосился на него с удивлением. А он продолжал:
— Одно слово — Москва! Как я, бывало, мечтал о Москве да о Кремле, когда жил в нашей глуши. Вот, думаю, только бы попасть в Москву — а там уж все само станется. И буду я не таков, каким был. Ты, верно, тоже о Москве мечтал?
— Ну, еще бы!
— Вот и попали в Москву. Вот и в Москве.
Помолчали. И опять он заговорил:
— Мой батька, когда жив был… он был священником в селе, и был у него дьякон, оба тоже выпивали… бывало, сидят вечером перед бутылкой, закусывают только огурцами и все считают: пристань такая-то, пересадка, опять пристань… это они будто едут в Москву и на каждой остановке пьют. И как доезжали до Пьяного Бора — сразу по три рюмки, и дальше уж, бывало, и не едут. Оба от вина сгорели. А вот мой брат, он совсем не пьет, удержался; и все отцовское наследье мне досталось.
— Ты тоже удержись, Мартынов.
— Что? Да… А видишь, Костя, вон там, правее моста, загорелся зеленый огонек… Аптека там, что ли? И в воде отражается. Хороша наша Москва, Бог с ней! Ты любишь ее?
— Люблю, как же ее не любить?
— Да, как ее не любить, ежели она — Москва! Ну, Костя, пойдем.
Когда шли мы обратно, Мартынов смотрел по сторонам: и на маковки храмов, и на все здания, в сумерках серые, и на Царь-пушку, и на темнеющее небо — точно видел все впервые по-настоящему, то ли здоровался, то ли прощался. Расстались мы с ним на Лубянской площади: мне нужно было пройти на Покровку к знакомым. Когда расставались, он сказал как-то смущенно и будто равнодушно:
— Сестру-то, королеву нашу, скоро увидишь?
— Думаю, на днях; а что?
— Да так. Увидишь — кланяйся.
— Поклонюсь.
— Ну, прощай, Костя.
— Прощай, Мартынов. Ты домой?
— Домой.
— Я вернусь поздно, только к ночи.
— Ладно.
Странный сегодня Мартынов! Совсем не как всегда. Такой тихий.
Я вернулся домой после двенадцати. Дверь мне открыла Марья Ивановна, в ночной кофте, возбужденная, — и зашептала:
— Что было-то! Страху-то было у нас!
— А что такое?
— Да ведь вот счастье, что я зашла! И Фрол Аполлонович дома был. Только спать легли. Он и срезал веревку.
— Да что случилось, Марья Ивановна?
— Как что случилось? Повесился товарищ ваш! Повесился на крюке.
И рассказала мне взволнованным шепотом и точно бы с радостью, как она прислушалась, будто стонет и будто все возится, и как у нее екнуло сердце, что не все ладно, как попробовала окликнуть, сперва тихонько, потом громче, потом постучала в комнату, а уж потом вместе с Фролом Аполлоновичем налегли на дверь — и задвижку сбили.
— А он уже висит, только еще качается. Я закричала голосом, а Фрол Аполлонович побежал за ножиком, а ножик тупой, я поддерживаю, а он режет, едва перепелил. Я и удержать не могла — так он и на пол рухнул.
— И что же теперь?
— Лежит. Да ничего, жив, совсем очнулся и на постель лег. Не велел нам приходить. А мы не спим, вас ждем, слушаем — опять бы чего не вышло. Шею-то он стер себе. Не знали, бежать ли за полицией, или как…
Я на цыпочках прошел в комнату Мартынова. Он лежал с закрытыми глазами, и на столе горела свеча, оставленная Марьей Ивановной.
Я не знал, что спросить. Спросил:
— Ну, ты как, Мартынов, ничего?
Он открыл глаза, улыбнулся мне грустно и сказал:
— Ничего. Ты уйди, Костя. Ты не бойся, я это так. Больше не буду. Это чепуха, глупости.
— А зачем ты, Мартынов?
— Иди, иди, говорю: чепуха. Раз говорю: не буду, значит, не буду.
— Даешь слово?
— Даю слово. Ты иди, спи.
Часа два я лежал, прислушиваясь. Из комнаты Мартынова, дверь в которую я оставил открытой, доносилось ровное дыхание. Раз он тихо застонал, очевидно во сне.
Заснул и я.
Катя окончила свои двухгодичные архитектурные курсы. То, о чем она некогда мечтала с сияющими глазами и чему мы не очень верили, — случилось просто и естественно. Она — одна из первых женщин-архитекторов в России. И она — на виду, ей обещают карьеру, к ней очень почтительно относятся ее профессора.
Я не замечаю в Кате никакой особенной радости. Она довольна — и только:
— Планы будущего. Ну, там увидится…
Она устроила обед своим профессорам и однокурсницам. Все они не показались мне людьми интересными. Приятнее других архитектор Власьев, и раньше бывавший у Кати. На обеде я заметил, что к нему с особым, подчеркнутым вниманием относится Евгений Карлович и что Катю это не то чтобы беспокоит, а немного удивляет. Зато Виктор Германович, родственник Катиного мужа и наш партнер по винту, смотрит на Власьева враждебно и был бы не прочь с ним сцепиться, конечно — в корректнейшем споре. Сама Катя выделяет Власьева простотой к нему отношения, как к своему в доме человеку, хотя частым гостем Власьев никогда не был.
Я, как тоже "свой", но только в значительной мере чуждый этой новой компании, невольно приглядываюсь. И довольно скоро я прихожу к убеждению, что Власьев влюблен в Катю и не умеет этого скрыть, что это замечаю не один я и что знает это и Катя. Ей неприятно? Нет, я этого не вижу. Но ее это стесняет.
К вечеру большинство гостей уехало в город, а мы, оставшиеся, пошли на Сокольничий круг, где уже начались концерты. К моему удивлению, пошел с нами и Евгений Карлович. Он — в на редкость хорошем настроении духа и особенно любезен со мной: расспрашивает об университете и даже высказывает либеральные мысли, совсем ему не свойственные. Мне начинает казаться, что вот-вот он расскажет мне легкомысленный анекдот или предложит мне вечную дружбу: еще никогда таким я его не видал.
Как полагается, мы гуляем по кругу. Катя с Власьевым впереди. Иногда она повертывает к нему голову и смотрит на него с внимательным изумлением. Власьев часто оглядывается, будто случайно, и говорит безостановочно. Я чувствую, что муж Кати, не отставая от меня и продолжая меня занимать, сам наблюдает за Катей и Власьевым. И я не могу понять, почему на лице Евгения Карловича плохо скрытая радость, даже какое-то, довольно противное, торжество.
Приятно, что Виктор Германович не пошел с нами. Он остался подремать и обещал, если составится винт, быть вечером партнером.
Все это не нравится. Братское чувство мне подсказывает, что сестру подстерегает какая-то опасность, о которой она не догадывается. Но ведь возможно, что мне это только кажется.
Обратно я иду с Катей и ее сокурсницей, а Евгении Карлович и Власьев с двумя другими дамами. Но дам занимает только Евгений Карлович, который сегодня исключительно мил и галантен. Власьев идет вместе с ними, но молчит или рассеянно улыбается, когда это ему кажется необходимым.
Сейчас неудобно, но после я с Катей поговорю. Только о чем же?
Гости, кроме одной из дам, прощаются и уезжают в город; в их числе и Власьев. Евгений Карлович долго и сердечно трясет руку Власьева и просит бывать почаще, а по уходе его немедленно делается солидным и скучающим; очевидно — теперь он предоставит нас самим себе и запрется в кабинете или уедет в город.
Когда Катя прощается с Власьевым, она громко отвечает на его тихий вопрос:
— Я подумаю и скажу вам.
Затем, когда Власьев отходит, она говорит, обращаясь ко мне:
— Знаешь, Костя, он предложил мне работать вместе. У него сейчас три постройки на ходу, в том числе одна очень для меня интересная: здание Народного дома.
— Ты согласишься?
— Я хочу подумать. Это не совсем просто, тем более что не все в Москве, придется иногда уезжать.
Евгений Карлович, конечно, слышит, но смотрит в сторону, где его заинтересовала собака. Впрочем, ведь Катя говорит не с ним, а со мною. И я отвечаю Кате:
— По-моему, это очень интересно. Я бы на твоем месте согласился. Тем более что Власьев — очень видный архитектор; и человек приятный.
— Даже слишком видный, чтобы работать с ним, как он мне предложил, на равных началах. Я что-то даже не совсем поняла его. Но мы еще поговорим с ним.
Евгений Карлович не нашел собаку достаточно породистой и теперь идет домой впереди нас, хотя это неделикатно, так как с нами дама. Но он уже не хочет быть обаятельным.
Дама, наша спутница, поздравляет Катю:
— Вы сделаете блестящую карьеру! Сколько мужчин вам позавидуют.
По глазам дамы, впрочем довольно добродушной, я вижу, что позавидуют Кате не одни мужчины.
Что-то такое произошло, чего я еще не усвоил и не разобрал. Я вижу одно: Катя тоже не все понимает и явно обеспокоена. Казалось, она должна бы радоваться и окончанию курсов, и своему успеху, а этой радости я в ней не вижу. Что-то ее тревожит. Что?
Мы проводим довольно скучный вечер. Дама плохо играет в винт, Виктор Германович едва сдерживается, и после трех роберов мы с удовольствием покидаем столик.