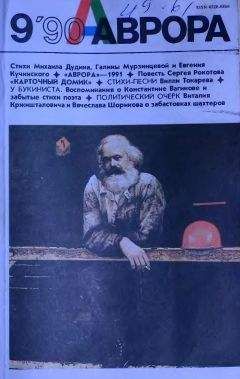— …Нет, а ты помнишь…
— …свалил я его с двух ударов, а на меня с бруствера еще двое здоровенных таких эсэсовцев — им тогда "язык" позарез был нужен…
"Десантники, сдавайтесь! — услышал я сквозь голоса фронтовиков у ресторана и шум машин на площади и музыку из окон. — Это говорю я, мулла Ахмад". И все вдруг стихло. Показалось, что слышно темноту. У Вити в ТТ[7] оставалось два патрона, но ТТ мы называли "мухобойкой". У меня был пистолет-нож с одной малокалиберной пулей. И две гранаты на двоих. И две тротиловые шашки. "У умного солдата и рукавица гранатой может стать", — говорил взводный. И он умел это делать. Я размахнулся и швырнул в сторону пустой "рожок". Они тут же открыли на звук огонь, и Витя точно бросил оборонительную гранату. Снова стихло. Лишь кто-то из них слабо стонал внизу. Прошло минут пять. Зная, что нас двое, но по рации мы могли вызвать подкрепление, они поползли. Ахмад тем временем через мегафон чуть ли не шутя описывал, что он с нами сделает, если мы не сдадимся, и что-то о Москве, о наших женщинах, но разобрать было трудно. "С-сука!" — закричал Витя, поймав в прибор ночного видения одного, который подполз к нам совсем близко, и застрелил его из пистолета. И тут же человек восемь вскочили, но моя "эфка" разметала их, на скале над нами повис обрывок белой чалмы. Мы поняли, что нас окружили "черные аисты" — пакистанский отряд специального назначения, командос. Поняли, что вряд ли уйдем.
Группу фронтовиков пропустили в ресторан. Прошло время и кряжистый, с седыми ресницами, вышел на улицу кого-то встретить или просто покурить. А мы все стояли. С козырька над входом в ресторан падали холодные капли, одна попала мне за шиворот и покатилась между лопатками.
— Дай ему трешник, — тихо сказала Оля, кивнув на швейцара, у которого на форменном кителе тоже поблескивали две медали.
— Что?
— Три рубля… Да разве ты можешь, — вздохнула Оля. — Ладно. Будем стоять.
Кряжистый снова что-то рассказывал, размахивая кулаками. Подошли еще фронтовики, кто-то назвал кряжистого Теркиным. Улыбались.
И когда кроме тротиловых шашек и ножей у нас не осталось ничего, мы отползли к обрыву и, обнявшись на прощанье, — были б на нас кресты, крестами бы обменялись, как на Руси было принято, — стали спускаться. На нижнюю площадку первым спрыгнул Витя. Я не видел, что там произошло, слышал лишь крик, от которого у меня онемели и перестали сгибаться руки. Но в темноте внизу раздался чистый русский мат, и я очнулся, справился с руками. Спрыгнул. Витя дрался с двумя "аистами", из-за камня торчала чья-то неживая нога. "Коля, держись!" — крикнул Витя, метнулась сверху тень, но я опередил, и кошачий визг издало то, что было натренированным, обученным убивать человеческим телом, а теперь бесформенно извивалось и дергалось, пронзенное лезвием. "Сзади, Ко-ля" — рявкнул Витя, отбивая прикладом удар. Я отскочил, не совсем удачно увернувшись, и саданул здоровому бородачу ногой в пах.
— …ну, падла фашистская, заполучи! — бушевал кряжистый, налитое кровью лоснящееся лицо его было страшным. — За родину! За товарища Сталина! — он пригибался, уходя от невидимых ударов и нанося по дождю размашистые удары прикладом, ногами, головой.
Оля подняла воротник куртки, вжав голову в плечи, смотрела на него.
Я подошел к двери и рванул ее на себя. Дверь была заперта. Швейцар посмотрел на меня, как на рыбу в аквариуме, зевнул и отошел.
— Откройте, — сказал я.
"Прыгай! Прыгай! — заорал Витя, я обернулся, он пнул меня головой в живот, и тут же раздался взрыв. Но я уже лежал на дне ущелья в снегу. Острые камушки рассекли мне лоб и щеку. Витя подорвал тротиловой шашкой себя и их, которые были на площадке. Пока "аисты" собирали останки, я успел отползти под скалу и обнаружил там узкий лаз в штольню. Раздевшись, я проскользнул туда и втащил вещи. Поискал в темноте камень, чтобы завалить лаз, но не нашел. Было так тихо, что казалось, они услышат сверху стук моего сердца и дыхание. Я почти не дышал, но от этого сердце стучало еще громче. Сперва я ни о чем не думал, лежал ничком и ждал, сжимая в окровавленной руке тротиловую шашку. Нож я выронил, когда падал. Спустя несколько минут я почувствовал, что левая рука не сгибается и не двигается.
— Откройте, — сказал я и постучал костяшками пальцев по стеклу, но швейцар не обратил внимания. — Откройте!
— Ты чего шумишь, пацан? — приблизился ко мне кряжистый. Увидев мой орден, он крякнул, крутанул головой и сказал — Звезда? Так ты…
Все, кто был у ресторана, смотрели на меня. И Оля.
— Ты сопляк, — сказал кряжистый, тяжело задышав. — Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы…
Перетянув кое-как набитую осколками руку, вколов два промедола, я лежал ничком, прижавшись щекой к ледяному камню, и ждал, силы уходили и мне хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Тошнило, я еле сдерживался. Совсем рядом послышались шаги. Голос. Мне казалось, я понимаю: "Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог". Другой голос. Может быть, в старости я все отчетливо вспомню, что чувствовал там, в штольне, о чем думал. Говорят, такое бывает. Жизнь свою, как пишут, я не вспоминал. И в той части души или мозга, где обычно помещается страх, было пусто. Пыток нечего бояться — тротиловая шашка со мной, она не подведет. А чего еще бояться? Смерти? Нет, я не боялся смерти в тот момент. Я завидовал, если можно это назвать завистью. Ах, как я завидовал отцам и дедам — фронтовикам! Не было бы счастливей меня человека на земле, если б имел право я выползти из проклятой, хоть и спасшей жизнь штольни, подняться в полный рост и со словами "за Родину!" пойти на них — пусть даже с голыми руками. Но права такого и воли на это я не имел — вот в чем дело. Я мог лишь думать о Родине. Россия, Родина, держава… Не даром слова эти женского рода. И если пришлось бы рвануть шашку, то умер бы я, подумав о маме и об Оле. И тете Дуне. И значит — о Родине. Умер бы я — сколько бы ни говорили теперь и ни писали, что все было зазря — за Родину, этого у меня никто не отнимет. Потому что только за Родину, в конце концов, не страшно умирать. За ту, которая далеко и которая ничего обо мне не узнает. Которую еще три дня назад видел по телевизору — заснеженную милую мою Москву, Садовое кольцо, площадь Маяковского. В Москве ночью минус пять — семь, по области до минус десяти, днем — ноль — минус два, слабый снег. Снег в Москве. Снежок. А я здесь. И никто не знает. Умереть не страшно, я понял. Я это точно понял. Тем более, если готов, если навидался смерти, ходил с ней чуть ли не в обнимку и даже любовью по ночам занимался — под "градом". Если минуту назад твой товарищ подорвал себя. Если истекаешь кровью и почти уже нет сил ни на что — только лечь на шашку. "Смерть — курва", — говорил взводный. "А что мне ее бояться? — улыбался Миша Хитяев. — Пока я есть — смерти нет, когда она придет, меня уже не будет". Язык наткнулся на острый обломок зуба, и я вспомнил, что собирался завтра, верней, сегодня, ехать в госпиталь. Пломбировать бы зуб не стали, там нечего пломбировать. И нерв бы уже не вытаскивали, что самое паршивое. Рванули бы корень — и все дела. Но теперь уж никаких дел. С Мишкой в море после дембеля не съезжу. И об университете уж не мечтать. Ни о чем не мечтать. Снова голоса. "Разулу-ллах-иллаха-илла-ллах… Аллах акбар…" Похоже, они молились. И мне бы помолиться — вот о чем я подумал. Хоть и не верил никогда в бога. "Отче наш…" — откуда мне помнить? Но не присягу ж наизусть читать. Не пионерскую клятву. А с матерщиной на устах смерть самая поганая, хуже звериной — Павел прав. А если жить останусь? Ты сопляк, сказал кряжистый. Так он сказал. Сними лучше, спрячь и никому не показывай. Мы Родину защищали, мы кровь за Родину проливали, а вы там… Если жить останусь буду жить. Жить. Жить. Жить. И тут я вспомнил из какого-то кино: "Отче наш, иже еси на небеси. Да пресвятится имя твое…" Вспомнил! Боже, дева Мария, сделайте, ну сделайте так, чтобы я остался жить, ну хоть чуть-чуть пожил бы, ну хоть годик, месяц, ну неделю!.. Это я лицом в свою теплую кровь ткнулся — вот и вспомнил про жизнь. Нет, думал я, прислушиваясь к скрипу снега под ногами "аистов". Умереть не страшно, нет. Хорошо бы еще их с собой на тот свет побольше уволочь. И жаль, конечно, что на этом свете от меня ничего, ни кровиночки не останется. Что тут сделаешь, мало прожил. Хотя могло бы уже сыну или дочери моей быть тогда года три. И какая-нибудь родинка бы повторилась. Кривая мизинца. Волосы. Ладно. Не узнают — вот что страшно. Завалит в этой штольне — и никто не узнает. Как про деда не узнали. Ты сопляк, сказал кряжистый. Мы кровь за Родину проливали, а вы там, вы… Они думали, что если убивали там, то и здесь им все можно!
Голоса исчезли. Я оглох, будто контузило. Я видел искореженные лица, мне кто-то что-то говорил, кричал, тыча пальцем в орден, кто-то издалека смотрел на меня с жалостью, Оля схватила меня за руку и пыталась увести — но я окаменел. Теперь я понимаю, что никогда не был, не чувствовал себя столь близким деду, не под Гвадалахарой и не на финской, а где-то у нас на Севере или в подвале в центре Москвы, — как тогда, лежа в заброшенной штольне. Мистика, конечно, но я бы мог поклясться, что слышу удары его сердца и они совпадают с моими, слышу его дыхание, вижу его серые глаза, глядящие в нацеленное в них дуло, — и вижу неживое, мертвое уже совсем, запорошенное снегом лицо деда с замерзшим на бескровных губах вопросом, неподвластным времени и тлену, вопросом, на который я и ответить не мог, не успел: "За что?" От Севильи до Гренады… от Гренады до Берлина… до Лубянки, Магадана… до Джелалабада… Сыну моему или дочери могло быть уже года три. Но через три года и девочка с огромными, смотрящими на меня глазами могла родить дочь или сына. И этого не будет. Слепым автоматным выстрелом я разрубил нить, которая тянулась бы тысячелетия. Я, чужой этой земле, этим камням, холодным, мертвым — вечным. А глаза ее смотрели на меня. "Он где-то здесь, второй шурави, уйти он не мог".