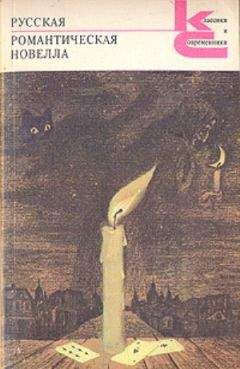Мы проводим довольно скучный вечер. Дама плохо играет в винт, Виктор Германович едва сдерживается, и после трех роберов мы с удовольствием покидаем столик.
Я охотно остался бы переночевать у сестры, но на носу экзамены — нужно с утра засесть за лекции. Даже Мартынов, который в последнее время очень остепенился, — даже он зубрит по целым дням и никуда не выходит. Два экзамена он уже сдал; а у меня первый на этой неделе.
И это весной! Разве для того весна, чтобы гнуть спину над книгами? Какая нелепость!
Когда весна только-только начинается, первыми вянут меховые шапки и шапочки, за ними стареют, линяют и делаются смешными и неуместными шубы, пальто и теплые перчатки, пальцы которых к этому времени уже не переносят дальнейшей починки. Затем внезапно все девушки хорошеют, и не потому, что их красит весенний наряд, а просто потому, что они в это верят. Что касается до нас, студентов, то мы раньше всех выходим гулять без пальто.
И небо уже не просвечивает сквозь ветки деревьев Тверского бульвара. Акварель кончилась — начинается масло летних красок. Городская весна приходит быстро, сразу распускается, но держится подолгу, потому что она и в городе, как в деревне, все-таки медлительна, все-таки она русская весна, а не какая-нибудь.
И когда экзаменам подходит конец, уже все цветет давно, а иной лист-скороспелка успел пожелтеть и лежит на дорожке, плохо усыпанной песком. Может быть, впрочем, это был больной листик. Почтальон принес деньги, — и это деньги на дорогу, их не истратишь, их убережешь. Еще неделя, только одна неделя. Уже заранее делается жаль Москвы — скоро расстанемся.
Впереди идет стройная и высокая дама, одетая с особым изяществом, под руку с господином в сером пальто. Серое пальто знакомо мне по походке. И усы. И профиль. Это — архитектор Власьев. А с ним — да ведь это Катя в новом весеннем костюме, которого я еще не видал!
Я догоняю их не сразу. Мне приятно неожиданно встретить в городе сестру. Но я чувствую, что Власьев будет не очень доволен нашей встречей. Вероятно, он провожает Катю после работы и хотел бы подольше остаться с ней вдвоем. Как хорош сейчас воздух, как приятно пройтись под руку с красивой женщиной. Завидую Власьеву! Завидую, что Катя ему не сестра.
Я подхожу сзади со стороны Кати и слышу ее голос:
— Я-то понимаю… Я отлично все понимаю, ведь я не малый ребенок. И сердиться мне не за что, я вам верю. Но неужели вы не можете…
И Катя внезапно обертывается: она услыхала и узнала мои шаги:
— Костя?
Она высвобождает руку, прижатую Власьевым, и бросается ко мне с настоящей радостью:
— Как хорошо, что я тебя встретила! Ты из университета? Я хотела сейчас к тебе заехать, но боялась не застать дома. У меня к тебе дело, и такое… ты никогда не догадаешься.
Власьев здоровается и старается быть приветливым; но вид у него немного убитый. Во всяком случае, я ему больше не завидую.
— Ты можешь, Костя, поехать сейчас ко мне?
— У меня экзамен, Катя.
— Завтра?
— Нет, через три дня. Последний. Впрочем — пустяковый, готовиться почти не нужно. Все важные я сдал.
— Ну вот что, Костя, мы дойдем вместе до Страстного, а там возьмем извозчика и поедем к тебе, только на полчаса. Нужно решить одно дело.
— Я с вами распрощаюсь здесь, — говорит Власьев.
И вид у него совсем не счастливый. Почему-то мне это приятно.
Катя протягивает ему руку:
— Завтра мы увидимся в студии.
— Слушаю.
— Я боюсь, что работу сегодня не подготовлю. Ничего?
— Пожалуйста.
— А дня через два — непременно сдам вам все, и тогда…
Власьев приподымает голову в ожидании, а Катя продолжает:
— …и тогда вы дадите мне отпуск на месяц, а то и немножко больше.
— Отпуск? Дело ваше — но почему?
— Я вам после скажу. Я, кажется, уеду.
Он молча кланяется, слишком рыцарски и почтительно, и мы уходим.
— Куда ты хочешь уехать, Катя?
Она смеется возбужденно и весело:
— Никуда не собиралась, а вот сейчас, как тебя увидала, нечаянно решила. И я, Костя, ужасно рада! Я поеду с тобой к маме.
— Нет — правда, Катя?
— Ну да. Мне хочется видеть Волгу и Каму, и я соскучилась по маме.
— Мама будет так счастлива!
— И я буду счастлива.
— И я!
— Мы все, Костя. И это мне необходимо: уехать. Как это удивительно вышло, что я тебя встретила на бульваре. Точно судьба! Ты был мне в эту минуту всех нужнее.
— Какое же у тебя ко мне дело?
— Дело? Да никакого. Вот только это. Хочешь — поедем на Воробьевы горы или куда вздумается? Я не хочу домой. Сегодня чудесный день.
— Ты хотела ко мне?
— Нет, я просто хотела пробыть с тобой подольше, если ты только можешь, если твои лекции подождут. Я, кстати, голодна. Ты не обедал еще? Хочешь — поедем в "Прагу"?
— Лучше пройдем пешком, это ведь почти рядом.
— Ну вот и чудесно. Дай мне руку. Я тебя сегодня угощаю обедом. А скоро, Костя, мы будем есть пьяноборских раков и стерлядь кольчиком — на пароходе. Какая прелесть!
Мы обедали в "Праге" и даже пили вино. Катя была так весела и казалась такой счастливой, что я не мог приписать это только весеннему воздуху. Что-то с ней произошло.
Когда мы в третий раз чокнулись стаканами, она мне сказала:
— Я верю в судьбу. Мне сегодня очень нужно было немножко семьи, а здесь, в Москве, моя семья — только ты. Не к Лизе же идти мне с моими горестями! А детям не расскажешь. Мама далеко…
— Какие у тебя горести?
— Горестей, пожалуй, никаких нет, то есть новых. А могло бы случиться многое. Ну, теперь мы поедем к маме. Вот чудесно!
— Ты думаешь надолго поехать?
— Ну, на месяц, на два, пока поживется. Мне не хочется быть сейчас в Москве.
— Тут при чем-то Власьев?
— Он тебе не нравится?
— Почему же, он приятный человек.
— Да, он хороший человек. Он мне нравится очень. Но, конечно, он такой же, как все.
— Он объяснился тебе в любви?
Она ответила задумчиво:
— Это-то ничего. Может быть, он и действительно меня любит. Это-то ничего…
— А что же?
Катя отчетливо сказала фразу, которая, должно быть, давно в ней сложилась и которую она часто мысленно повторяла:
— Видишь, Костя, нигде и никогда ничего нельзя найти, никакой нельзя придумать себе жизни, чтобы сейчас же перед тобой не оказался человек, который смотрит поверх твоих желаний и интересов и который ждет от тебя одного и того же… Будь он самый хороший… Сначала ему нужна ты, а твоя жизнь — дело второе. И сразу все рушится. И так всегда.
Мне было приятно, что сестра так откровенна со мной. Я казался себе как бы старшим братом, призванным обсудить ее "дело" и дать ей мудрый совет.
— Ты странная, Катя. Но ведь так уж мир устроен, и ничего в этом дурного нет. По-моему, если тебе, например, нравится Власьев, ты могла бы развестись с Евгением Карловичем и выйти за Власьева замуж.
Она посмотрела на меня удивленно, но спокойно ответила:
— Да, конечно.
— Или… значит, ты его не так любишь.
— Не знаю, вероятно.
— Так в чем же дело, Катя?
Она отвечала рассеянно:
— Дело в том, что… я ведь говорю: так всегда и будет. Это очень трудно объяснить, Костя, и понять трудно. Нужно быть женщиной… Вот поэтому мне так хочется к маме. Мы поедем, правда?
— Конечно, поедем.
— Ну — вот и все. Вот и хорошо…
В юности, когда я еще всерьез мечтал сделаться заправским писателем и еще не угадывал, что жизнь моя незаметно протечет в работе, может быть и полезной, но далекой от области литературы, я нередко, любуясь картинами природы, мысленно пытался воссоздать их в слове. Никто тогда не сказал мне, что перо, даже в руках человека, всю жизнь посвятившего искусству слова, бессильно изобразить неизмеримую и поистине земную, близкую нам, почти домашнюю красоту тех мест, по которым лежал наш с сестрой путь из Москвы на нашу приуральскую родину.
Теперь, лучше зная бессилие искусства и полную беспомощность собственного пера, — я отсылаю к их воспоминаниям тех моих читателей, которым есть что вспомнить и из памяти которых картины чахлой европейской природы не вытеснили очарованья Камы, Волги, Урала, нашего Севера и нашей Сибири. Милостью судьбы, не скрывшей от меня ни одного уголка Европы — ни лазурных берегов ее Юга, ни ее скандинавских красот, — я мог проверить свои давние впечатления, мог сравнить и могу теперь сказать со спокойной уверенностью:
— Все, что есть прекрасного здесь, — есть и у нас; но и среднего нашего не найти нигде в Европе.
И я не буду лицемерить: это сознание вновь до краев наполняет русской гордостью мою душу, опустошенную рядом иных, слишком невыгодных для нас сравнений. Затерянный, затолканный в толпе чужих, самоуверенных, презрительных людей, — я снова чувствую себя сыном и гражданином великой, богатейшей и прекраснейшей из стран. И, страдая ее сегодняшними бедами, я радостно улыбаюсь ее будущему.