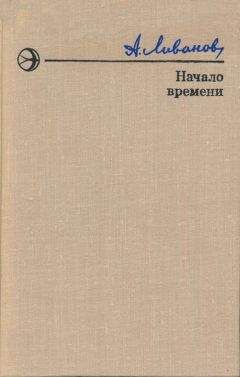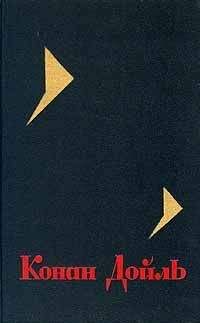«Главный» досадливо покрутил головой, тревожно оглянулся.
— Кричать не надо… Лучше, чтоб о нас никто но знал…
— Тогда без построения… Ружейные приемы покажу, — потише говорит отец. И пока «главный» раздумчиво и нерешительно соображает, отец, сам себе командуя («На ру–ку–у!.. К но–о-гиб!»), с неожиданной для меня легкостью, с прищелкиванием ладонью при перехвате ружья, принялся показывать ружейные приемы.
Городские комсомольцы — рабочие сахарного завода, портновские и сапожные подмастерья, сдержанно усмехаясь, смотрят на отца. Для них это вроде представления. Мне очень обидно, когда смеются над отцом.
«Главный» тронул отца за плечо: «Нет, нет… Это тоже не нужно».
— Что же вам тогда нужно? Может, штыковой бой? Длинным — коли, коротким — коли? — опускает ружье отец. — Тогда чучело надоть…
Доверчиво глядя на отца, «главный» с терпением в голосе говорит: «Им из этих винтовок стрелять надо. Покажи, как стрелять. Ребят по тревоге подняли. Ничего толком мы не успели».
У отца на лице мелькает какая‑то догадка.
— Стрелять, говоришь? — смешавшись, переспрашивает он. — Стрелять — это любой дурак сможет, — что‑то усиленно соображая, тянет отец. — Попадать — это уже опять наука!.. Есть обоймы с учебными патронами? Нет? Как это — нет? А настоящие, боевые?
— Пока ничего нет. Нам должны все подвезти. Но… это секрет. Понял? — замялся «главный», притянул отца за лацкан полушубка и пристально заглянул в глаза.
— Понял‑то я, понял! Только вы что себе думаете, — бандиты в вас камушками из рогатки пулять будут?.. У их и ружей, и патронов — о–го–го! У их «максимка», наверно, есть, — высвободив из руки «главного» воротник, возразил отец и притопнул деревянной ногой.
…Я между тем терял терпение, дергал отца за рваный рукав того же полушубка. Я сильно рисковал тем, что путался под ногами. Однако взяв в соображение, что на людях отец, возможно, и гаркнет свое «брысь», я надеялся, что до рукоприкладства дело не дойдет. Сухая и тяжелая рука отца была натренирована, и чуть что — мне доставался беспромашный шлепок пониже спины.
Косясь на «главного», который с первого взгляда обрел мое расположение (и тем, что был «главным комсомольцем», и своей кожанкой, и наганом), я, стараясь дотянуться до отцовского уха, шепчу про обойму патронов: ту самую, которую он, отец, давно нашел в лесном овражке. Отец еще тогда показал матери и мне эту штуковину… «Обойма патронов» — это я хорошо запомнил. Еще потом отец полез в подпечье прятать обойму, предупредив меня: «Руки–ноги повыдергивает, если только…»
Сообщение про «руки–ноги» было встречено комсомольцами всеобщим смехом: видимо, все же расслышали мой шепот!
Отец вдруг выпрямился, точно пружина. Он пристальным прищуром посмотрел мне в лицо — будто на моем лице, а не в подпечье собрался искать эти припрятанные патроны. Проговорив: «Щас!» — отец ринулся к хате.
Через минуту, держа винтовку «стволом в поле», он заталкивал обойму в магазинную коробку. Теперь он уже сам себя обрывал, когда по забывчивости пускался в теорию про «стебель–гребень–рукоятку» или «подаватель — рычаг подавателя». С изяществом, пальцы врастопырку, он легко вертел затвором, и патроны, один за другим, все обратно выскакивали из ружья. Комсомольцы теперь уже не усмехались, а смотрели на отца, как на фокусника, слушали его объяснения про «постоянный прицел» и «отдачу», про «патронник» и «предохранитель».
Наконец отец снова затолкал в обойму — кое–где уже тронутую точечками ржавчины — все пять патронов и отдал ее командиру:
— Пять бандитов убить можно, если, конечно, попасть…
И точно мы были артистами, и дольше после выхода оставаться на публике нам приличие не позволяло, отец взял меня за руку, чего раньше никогда не делал, и мы с достоинством удалились домой.
Навстречу нам шла мать. Перегнувшись вперед и обхватив полотенцем наш единственный круглый чугун, несла она комсомольцам дымящуюся, только что отваренную картошку. Смуглое лицо матери еще хранило след от горящей печи и ту затаенную добрую улыбку, которую я всегда замечал на ее лице, когда ей удавалось сделать что-то заведомо доброе. Картошка в подпечье была у нас на исходе, и я мог вполне оценить жалостливое сердце матери: комсомольцы с утра ничего не ели…
Меньше всего, видно, отец ждал встретить сейчас Марчука. Да еще где? На нашей завалинке! Сидит себе скромненько, читает газету. Как ни в чем не бывало поднял глаза на нас.
— Ну как они? Стрелять смогут? — словно только что прервали об этом разговор с отцом, спросил Марчук.
Отец остановился, удивленно вытянул губы.
— Ну и ну! — вместо ответа повертел головой отец. — Никак я в толк не возьму, Марчук. Ты учитель или колдун?.. Знал, значит, что комсомольцев к нам направят? И зачем — знал? Ведь Гаврила — и тот ничего еще небось не знает. Почему ты, Марчук, обо всем всегда наперед знаешь?… Ох, видать, ты хитрец каких мало! Кажется мне, что в нашем селе ни один волос ни с одной мужицкой потылицы не упадет без тебя… Колдун ты, как есть колдун!..
Отец опустился на завалинку рядом с учителем, помолчал с видом оскорбленного достоинства. Недоверие к нему, скрытность учителя явно обижали отца.
— Ты что ж, выходит, мне не доверяешь? Что не партеец я?
— Нет, Карпуша, нет. Видишь — и Гавриле ничего я не сказал. Тут такие дела… И вправду колдовать приходится. У самого голова, как макитра с опарой. Через край прет. Погоди немного. Все, все узнаете… А ты не беспокойся. Хлопцы скоро тронутся в дорогу. Ночевать не будут.
Отец отвернулся, пожал плечами. Марчук с виноватой улыбкой смотрел на него.
— Ладно, не сердись. Мне самому нелегко теперь. Не хватало б, чтоб ты и Гаврила рассердились на меня. Еще самую малость — я вам все свое колдовство раскрою.
— Дай‑то бог… Я не сержусь. Ежли нельзя, не говори. А хлопцы — толковые! Только без патронов они пока…
— Патроны им доставили. Уже там, на месте ждут их.
— И это ты знаешь!.. Ну, жох! Одно только скажи мне, Марчук. Весной к тебе брат приезжал… Так то брат или…
— Я бы такого брата… Вроде твоего поручика Лунева…
— Я так и думал!.. Ну ладно. Что мне дальше делать? Может, еще чего надо — так ты не жмись, говори.
— Нет, спасибо, Карпуша, — дотронулся Марчук до руки отца в знак, что доволен им. — В эту иочь многое решится. Тут такой узелок распутаем!..
— И все концы в нашем селе?
— Что ты! Отряды посланы в разные места. Бандиты не уйдут. Про наш разговор — Гавриле пока ничего. Ты во хмелю — горяч, а он и тверезый не лучше… Про сэвэу ты, Карпуша, что‑нибудь слышал?
— Писали ведь в газете! Союз Освобождения Украины? А если по правде назвать, союз обдуривания Украины. Разве еще не всех изловили? Небось поповичи–мозгляки да офицеры. А платит — заграница…
— Вот именно, — согласился Марчук. — Новую силу из‑за кордона шлют. Тут кое‑кто ждет гостей… Вот всех — и зараз, и в капкап, — перед собой загреб воздух учитель и крепко сжал руку в кулак.
— Ты за этим в Харьков ездил?
— Потом, потом, Карпуша… А то вон—малый слушает.
Видно, я забывал временами притворяться, что мне не до разговора, что я очень занят игрой с Жучкой. Раз–другой глянув в мою сторону, Марчук понял мою уловку.
Он поднялся с завалинки. Все такой же, как всегда, неторопливый, пиджак, накинутый на плечи, с усмешечкой на губах под подстриженными аккуратными усиками.
— Пойду в сельраду.
— Ты эту ночь не ночевал бы дома… А?
— А и не придется ночевать!.. Хватит и мне дела.
Пока шагал через двор учитель, отец смотрел ему вслед, словно решал: оставаться на месте или одной ногой своей устремиться за этим человеком, не спрашивая куда— хоть на край света.
Жучка, проводив учителя, вернулась в конуру. На небе зажглись первые звезды.
Мой детский разум теперь трудился над установлением разницы между «контрабандой», «простой бандой» и «политической бандой», я ловил каждое слово, оброненное взрослыми у колодца ли, у монополки или у нас же в хате.
Хата наша стояла на околице, и в иные вечера напоминала нечто среднее между клубом и ночлежкой. Кто только здесь не перебывал! Барыги и лавочники, перекупщики, искавшие муку и яйца на пятак дешевле, чем на городском рынке; в островерхих башлыках и городских пальто ночью к нам забредали из города и контрабандисты — одни мрачно–молчаливые, другие отчаянно–говорливые и веселые, гонявшие чаи в ожидании провожатых, удобных караулов и безлунных ночей; заявлялись злейшие враги контрабандистов — красноармейцы–пограничники, проверявшие документы (которые всегда были в порядке), подозрительно косившиеся на мешки и баулы (все запретное пряталось в лесу); приходили бабы просить Карпушу письмо написать или мужики, соскучившиеся по информации (как ныне говорится) и желавшие лично расспросить Карпушу «что на свити диется». Уж не говоря об учителе Марчуке, соседе Василе, батюшке Герасиме и других завсегдатаях.