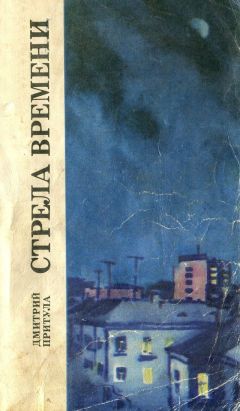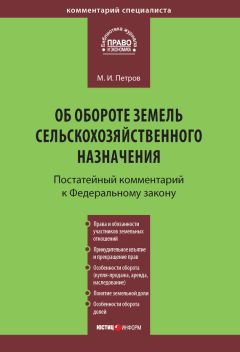— Не грустите.
— Я не грущу. Это я счастлив.
— Я тоже.
— Хороший вечер.
— Да.
— И танцы.
— Это неважно. Никого нет. Только мы.
— Да. Новые времена.
— Нет, просто люди со всего света.
— В Фонареве такого нет?
— Не знаю. Просто мы бы не отважились.
Песня кончилась, заиграли «Созрели вишни в саду у дяди Вани», все запрыгали, а они все топтались на месте, и было им все равно, здесь ли они, в Фонареве, в Москве ли — место значения не имело, — только б не разнимать рук, только б глаз не отводить.
Да, но как ни крути, а отлетели положенные семь дней, не сразу билеты на самолет достали, так и восьмой день прихватили, вот и он пришел — день отлета. Все! Лету конец, в осень пора. Стояли у моста, ожидая автобуса, люди уже вовсе осенние, он в темном костюме, она в черных брюках, теплой кофте, в руках плащи — осенние вовсе люди.
По небу облачка пошли, и надежда была, что объявят этот день нелетным и удастся им еще денек провести в сутолоке предотлетной, да что там — им сейчас чужой аэродром был дороже любого дома.
И не верилось, что через пять часов прибудут они в Фонарево и каждый войдет в свой дом. Да и как поверить, если с утра успели искупаться в море, вот сейчас автобус довезет их до Сочи, там еще час до аэропорта, три часа лету, час электрички, и все — осень и дом. Ну разве можно смириться с этим?
Да, можно, и еще как. Молча ехали в автобусе, а что говорить — оглушение, праздник кончился, все сказано.
Дождик так и не собрался, и надежды на нелетную погоду лопнули, как и всякие надежды. Скорехонько взвесили вещи, зарегистрировали билеты — тут перед ними какой-то сбой вышел с отлетом, и все спешили, — скорехонько запихали их в самолет да и отправили назад, откуда прилетели — по месту жительства.
Как только самолет разбежался и завис в воздухе, что-то оборвалось в Николае Филипповиче, он словно бы впал в беспробудное оглушение — все он видит, все замечает, вот даже руку за конфеткой протянул и кивком поблагодарил стюардессу, отметил даже, что стюардесса немолода, а недавно летали только стандартные красотки, да, верно, сейчас больше ценится надежность или же юных красавиц на внутренние линии не напасешься, он все вокруг замечал, но не понимал главного, где он, зачем он в воздухе и почему летит домой. Отчетливо понимал, что работа ему сейчас ненавистна, дом не мил и, будь его воля, он отсюда бы никуда не улетел. Но волю его никто к ответу не призывал, даже если б она и была. Но ее как раз сейчас и не было.
Как куль с почтой, как транзитный ящик, шваркнули его в самолет да и потянули к однажды отведенному месту. И главная беда в том состояла, что уже через три часа он увидит свой дом, войдет в родную квартиру. И это будет не когда-нибудь, но через три часа. И от сознания этого Николай Филиппович онемел.
Несчастна была и Тоня. Она откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза и вроде бы дремала. Но она не дремлет, понимал Николай Филиппович, она смиряется, как и он, с тем, что юг кончился и уже сегодня начнутся повседневные заботы. Она была напряжена, и всякое вмешательство извне — разговоры, толчок проходящего пассажира — могло привести к срыву. Он дотронулся до ее ладони, сжал ее, но ответа не было, и Николай Филиппович смирился — разлуку надо вытерпеть в одиночку.
А в аэропорту назначения дул ветер, спускались сумерки, сыпал мелкий дождь, деревья вдали были желты.
Они не молчали, конечно, что-то говорили, но все общие слова, к ним самим прямого отношения не имеющие, — вот и осень здесь, но хорошо, что сентябрь, а не октябрь, на золото еще полюбуемся, тут вот дождик, и плащи кстати, а долетели, однако же, я уверен был, что не долетим, нет, долетели, а как было б славно, разом бы все и разрешилось, но нет, так просто все не разрешается, человек должен перед этим основательно посуетиться, — долетели.
Ехали в электричке, сумерки вовсе сгустились, но дождик перестал, и небо на закате было холодным, малиновым, а в вагонах зажгли свет, и, когда его зажгли, Николай Филиппович окончательно понял — осень, они на родной земле, а счастье позади — свет в вагонах всегда особенно тускл, когда ты недавно был счастлив и впереди тебя ждет одиночество.
Сидели друг против друга, Тоне было зябко, лицо ее посерело, стало замкнутым, словно они отстранились друг от друга, тогда Николай Филиппович попытался улыбнуться, но то была, сразу понял, страдальческая улыбка, и от огорчения он по-птичьи покачал головой. Она кивнула в ответ — все поняла, спасибо за поддержку, мы все дотерпим, верно ведь? И стал говорить — вот завтра на работу, ах ты, и верно, на работу, как там сын, да и мои ничего не писали, правда, и я их не баловал, как-то за последние десять дней о доме ни разу не вспомнил, думал — дом родной там, где хорошо, а нет, дом родной — это где страдать следует.
А уж Губино проехали — вовсе подобрались, вовсе к осени приноровиться старались, бочком к ней прижаться, раствориться в ней, и уж совсем знакомые места пошли, переезд, долгая очередь машин, вот и лодки на берегу залива, вот свалка, вот насыпь меловая, все ветер, портянки старые, огороды убранные, скрипели, шаркали, повизгивали тормоза. Все. Все? Да, все. Это дом родной.
У своего подъезда Николай Филиппович поставил чемодан на крыльцо, выкурил папиросу, все собираясь с силами. Но сил не было. Вот надо поднять чемодан, заторопиться по лестнице, чуть сбить дыхание — ведь он счастлив после трехнедельной отлучки вернуться в семью, — но все не мог собраться с духом.
Щелчком отбросил папиросу, проследил за ее полетом, удовлетворенно кивнул, когда она упала в цветник, все, сказал себе, пора идти в быт, потому что жить следует и дальше.
И он стремительно стал подниматься по лестнице, даже насвистывая тихо «Начнем сначала», вроде человек бодр и весел, потому что ждет его семья родная.
Николай Филиппович мог бы открыть дверь своим ключом, но дал длинный звонок, чтоб выиграть еще минуту отсутствия.
Все в порядке, сказал себе, он пришел в норму и сумеет сыграть роль счастливого отца, вернувшегося в дом.
Дверь открыл Сережа — это была удача, это возможность привыкнуть в коридорчике к своей квартире.
— О! Кто приехал! Да как загорел!
— Здравствуй, сын.
И они обнялись.
— Да уж не думал, что будешь торопиться. Месяц-то следовало просидеть. Но как загорел. Мама, Света, смотрите, кто приехал.
— А ты что дома?
— Отпуск. Еще две недели. Хожу за грибами.
В коридор вышли Людмила Михайловна и Света. Николай Филиппович втиснулся между ними и разом обнял их, но мгновенно сообразил, что это слабовато выходит, и обнял каждую в отдельности да с поцелуем в щеку: здравствуй, Люся, здравствуй, Света.
И уже все вместе стали говорить, что он загорел, похудел, вообще помолодел, хотя, конечно, загар морщинит лицо, ну, ничего, вид усталый вполне объясним перелетом. И вообще:
— Человек был в командировке, а не на прогулке, вот и устал. Верно ведь, Нечаев? — Он мог бы и тайный подвох усмотреть в этих словах жены, но решил не усматривать.
— Верно, Люся, не на прогулке. Хотя сегодня утром еще купался.
— Счастливчик! — Это Света позавидовала.
— И море — двадцать один градус.
И вот когда он влез в привычные шлепанцы, то почувствовал, что в нем сидят сейчас два человека, два Нечаева, — один тот, что ехал в автобусе, курил у подъезда, ощущал себя человеком несчастнейшим, сидел где-то в груди у второго Нечаева, который привычно улыбался родным людям и был суетлив, и второму Нечаеву ясно было, что того, первого, можно отстранить только непрерывной суетой, веселостью, и как только второй Нечаев на мгновение умолкал, первый начинал напоминать о себе нытьем в груди, и тогда Николай Филиппович с пиджаком в одной руке, с чемоданом в другой прошел в большую комнату и потребовал:
— А где же паренек? А подайте сюда паренька! — Дедуля-путешественник стремится к любимому внуку.
Уже поставил чемодан на коврик, бросил пиджак на диван, вдруг вспомнил, что нужно руки помыть, и прошел в ванную, там глянул в зеркало, боже мой, какие фальшивые глаза, какая приклеенная улыбочка, и даже отвернулся в омерзении, но в этот момент в груди заныло от тоски, ведь получаса не прошло, как расстались с Тоней, а ей-то каково сейчас, нет, ей все-таки лучше — не нужно раздваиваться.
— А вот мы его сейчас увидим, мы его забодаем. Он не спит? — спросил у Светы.
— Нет, мы только с прогулки. Скоро пора кормить.
— Молоко есть?
— Почти нет. Подкармливаем.
— А мы его! А мы его!
Уже склонился над внуком, умилился было схожестью с малолетним Сережей, даже обрадовался, что второй Нечаев надежно упрятал первого за прутья грудной клетки, однако ж поймал себя на собственном постороннем взгляде — вот он вроде умиляется, видя внука, слыша, как тот гукает, как взмахивает руками и тянется к деду, а тому-то, главному, в сущности, Нечаеву, все это игра фальшивая, и нет ему ни минуты покоя.