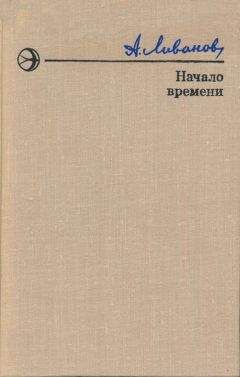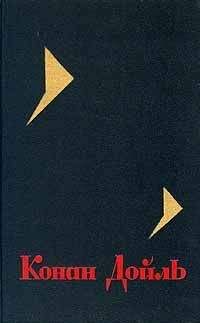— Вот откедова у тебя барские замашки, — пустила шпильку мать, — вместо работы все норовишь мешками дым носить.
— А что? Попировали! Я еще тогда о двух ногах был, — оживился отец, — не осрамился!
— А приборы были серебряные? — спросила мать, воспользовавшись заминкой, пока отец вспоминал город в Галиции. Кто‑кто, а мать знала толк в таких вещах: она была в наймах у доктора! Недаром ее вопрос оказался для меня самым каверзным.
— ПрибЬры — это ножи, вилки, ложки, —просвещая мепя, победоносно посмотрела на отца мать.
Отец заметил, что только у бар серебро подают каждый день. А у лавочника, как в поговорке: «сукно на кафтане, а едят — на тагане». Мать утверждала, что в доме Йоселя-лавочника все, как в лучших городских домах, и поэтому в будни подают на стол серебряные приборы. Дискуссия грозила очередной ссорой. Отец не любил, когда ему возражали, особенно — баба, собственная жена; вот–вот он обзовет мать «дурной Хымой» — и пойдет, и пойдет…
Я поспешил прервать родительскую ссору и, продолжая отчет об обеде, рассказал о невиданном супе из курятины и лапши — из куриной же яишни! Не знал я, что этим только подолью масла в огонь.
— О, буржуи проклятые! Курятину с яичницей жрут! Это что называется, сало с салом! — нрицыкал языком отец, с тихой яростью покачал головой, показав, что в нем не дремлет классовый инстинкт бывшего революционера, «рвавшего погоны и кричавшего «долой».
И уже в заключение была упомянута хозяйка дома — Лия. Мать, поддавшись настроению, неосторожно похвалила хозяйку.
— Дура! — отрезал отец. — Что она, что Алеша чахоточный — два сапога пара. Вместо ученья — они там в городе любовь крутили…
— Любовь не крутят. Ею живут… — отозвалась мать. Это были слова и голос, адресованные куда‑то вдаль — дальше и выше отцовского понимания. Что он, мол, может понимать в любви, неотесанный мужик, загрубевший в окопах солдат!
— Глупость все это! Из жира люди бесятся!.. — Теряя уверенность, все же не сдавался отец… — От него, чахоточного, наверно, и понесла…
— Замолчи! — грозно оперлась об ухват мать. Это был вечный охранительный инстинкт женщины перед мужским разлагательным кощунством. — При ребенке хоть постыдился бы!
— Даже на учительницу экзамен не выдержала, — замял отец смутительный для меня разговор. — Ее профессора спросили: «Посредине Днестра пролетел петух и снес яйцо, кому оно принадлежит — нам или румынам?» Не знала, дура, что ответить! А ответить надо было: «Петух не курица и яйца не смог снести». Дура, как и все бабы! — рассмеялся отец, берясь за книгу.
Я задумался над тем, как это «держут экзамеп» (очень сбивало с толку слово «держать»; затем — какие неимоверно сложные задают вопросы на этих экзаменах! Откуда мне было знать, что отцу на память пришел анекдот с еще дореволюционной бородой…
В заключение этой истории сообщу, что в дом Лии пришла беда. Мальчик, которого я катал в красивой колясочке, умер от воспаления легких. Лия за несколько дней «стала старухой», как говорили на селе. Мальчика повезли хоронить в город. Мне объясняли, что, хотя он и ребенок, хоронить его на христианском кладбище ни в коем разе нельзя; что в городе есть особое кладбище. Вместо крестов там просто могилы (как‑то нелегко было представить — кладбище и без крестов…). И еще меня удивило, что религиозная нетерпимость у покойников куда сильнее, чем у живых.
После похорон Йосель и Лия куда‑то уехали, очень далеко, надо полагать. Отец при этом так махнул рукой, так присвистнул, что я понял — дальше уехать и невозможно: «Аж в Америку!»
Америка, как и Бессарабия, мне представлялась черной, без солнца, вся во мраке ночи. Туда, вероятно, уезжают с горя все, у кого умирают маленькие дети. Свет для меня кончался за лесом, где садилось солнце. Америка была потусторонней землей, почти небылью, кладбищем живых…
Долго еще, проходя мимо дома Йоселя, я с грустью поглядывал на глухо закрытые ставни, на поросшие травой, разваливающиеся каменные ступеньки крыльца под жестяным навесом. В этом доме побывала смерть, и он наводил на меня непонятный страх. И все же казалось вот-вот громыхнет внутри дома запор, на пороге покажется Лия с застенчивой улыбкой на лице, а затем красивая колясочка с бутузом. На крыше каменного погреба лавочника теперь часто сидела галка; осторожно следила за мной, изредка оглашая двор своим сухим гортанным криком. Дни угасали тихо, над подсолнухами плыли синие сумерки, сменяясь густой теменью. В просторном небе млечный шлях мерцал, как сухая снежная дорожка, ярко светил Чумацкий воз. Замирал собачий лай, и село казалось затерянным в пустыне. Но едва наступали ранние летние рассветы, после короткой ночи, в воздухе, резко пропахшем полынью, оживали звуки нового дня. Скрипели колеса телег, раздавалось «цоб–цобэ», блеяли на выгоне овцы, и все звонче оглашалось утро гулкими выстрелами пастушьего бича.
Весть о смерти Алеши, смерть мальчика, отъезд Лип. Слишком много утрат внезапно обрушилось на меня. Я стал недоверчив к жизни, она страшила меня своей непостижимой жестокостью. Кто из смертных, какой великий ум может безоговорочно смириться с мыслью о смерти, с ее неотвратимостью? Тем трудней это для ребенка…
Отец и Симон сидят на лавке. Лица их задумчивые. Видно, главное сказано и дальше дело уже не в словах, а в том, чтобы думать, думать. По–мужицки, неторопливо, основательно, молча, как пашут землю, как делается любая крестьянская работа. И не минутами, и даже не часами, а днями, неделями — неспешно созревает насущная мысль, житейское решение. Мужику нельзя быть легкомысленным и беспечным — за это можно поплатиться неурожаем, голодом. Земля учит серьезности и ответственности, от нее в характер мужика приходит суровость и постоянство. Недостаток знаний мужик восполняет опытом и природной сметкой, той мудрой осторояшостью, из‑за которой и казался быстрому и ухватистому горожанину — «серым», «тугоумным», «хитрым».
Время крестьянское не знает ни календарей, ни графиков. Оно, как речной поток — без шумных перекатов и стремительных поворотов. Весна, чтоб пахать и сеять хлеб, лето — чтоб убирать хлеб, осень — чтоб снова пахать и сеять хлеб, а зима — чтоб ждать новой весны. Хлеб — всему голова, и мужик полностью подчинил свою жизнь, душу и мысли ему — хлебу, размеренно, извечно и мудро распределившему время на времена года. Не спеша зреет хлеб — значит, и мужику спешить некуда. Так создается ритм и круговорот природы, в которой крестьянин его живая часть, подчиненная ему. И хоть отец и «порченый мужик», но сколько презрения я ловлю во взгляде его, когда заезжий Турок, слюнявя пальцы и на всю хату икая после яичницы с ветчиной, пересчитывает деньги, хлопает ладонью по пухлой пачке, шумно хвастает своей удачливостью и уменьем жить. Нет, пусть Василь и жилится, пусть для Симона кулак Терентий стал вроде иконы, но они хлеборобы и, значит, песмотря на споры, отец пх уважает. Отец это им не раз уже объяснял, особенно после того, как, бывало, пообщается с пляшкой для воодушевления.
Золотистый свет заката, прорвавшись сквозь прижатые к горизонту пепельные тучи, влетел в оконце, заиграл на впалых щеках отца, четырьмя косыми квадратами лег на пол, не дотянувшись до охапки соломы возле печи. Затрепетала листва на груше, подставляя внезапному свету серебряную изнанку. Но медленно затянулась щель в тучах, гаснет блеск предсумеречного солнца на лице отца, на листве груши, на желтых тарелках подсолнуха в огороде.
…Симон ждет, смотрит в лицо отца. Что он скажет? Отец ничего не говорит. Он теперь будет думать, думать.
— Ну, ты как знаешь, а я решил и не отступлюсь! — вскинув кудлатой рыжеволосой головой, говорит Симон. — Земли там много. Там в наймах богаче нашего живут! Я жизнь на разной подкладке щупал, — знаю!
Матери нет дома. Я слушаю разговор отца и Симона. Речь о Херсонщине. Там — степь, много земли. У Симона там брат на хуторе живет, приглашает переселиться. У него земли больше, чем у Терентия. «Все добротный чернозем! Воткнешь оглоблю — вырастет воз! А здесь жизнь — совсем смухортилась…»
Потерять последних друзей, Симона и его жену Олэну, — мысль эта для меня невыносима. Даже сердце заходится. Я боюсь, что отец откажет Симону, не поедет с ним. Но я вдруг чувствую, как мне дорого наше село. Лучше его нет на всем свете! Пусть белые мазанки по брюхо вросли в землю, пусть пугают меня сычи в дуплистых столетних липах поповского сада, пусть с замирающим сердцем встречаю я темноту, боясь покойников с кладбища, пусть трепетом объят я во время молитвы в церкви, где смутные лики святых смотрят на меня с мрачной беспощадностью, — я люблю свое село. Люблю облака на небе, розовые закаты, васильки и ромашки на обочинах межи, на косогорах одинокие сосны, освещенные солнцем и в красной бронзовой коре, люблю за полями кудрявые перелески, зубчатым темным забором окаймляющие горизонт.