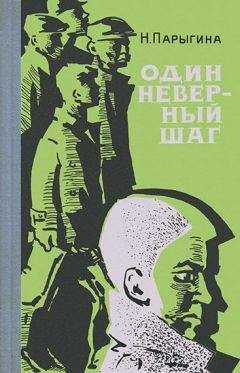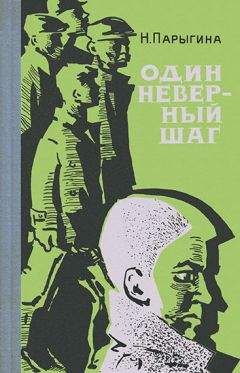Люся смотрит на них, на мужа и на сына, и улыбается. Все люди тут, у моря и в море, такие счастливые! Вот эта смуглая девочка, которая то и дело ныряет и фыркает, как дельфин, — ну конечно, она счастливая. Старушка, не умеющая плавать, купается у самого берега и блаженно улыбается. Девушка и парень, лежа на берегу кверху спинами, о чем-то тихо заинтересованно разговаривают. Тощий мужчина в черных очках осторожно пробует ногой воду… Ну, конечно, все они счастливые, все, все! А те, кто здесь живет, у моря, они, должно быть, счастливы всегда.
— Мама, иди к нам! — кричит Николка.
— Иду!
Люся ступает в воду и вздрагивает.
— Ой, холодная!
— Теплая, теплая! — кричат вместе Николка и Костя.
Люся делает еще несколько шагов, ежится, а потом с размаху бросается в воду и плывет. Море с легким всплеском принимает ее тело, ласкает ее и бережно поддерживает. Люся легко вскидывает руки, выпрямив послушное гибкое тело, помогает себе ногами. Она знает, что Костя смотрит сейчас на нее, любуется ею, и плывет красиво и неутомимо.
— Лю-ся, обратно! — кричит Костя обеспокоенно.
— Ма-ма!
«Еще немного», — думает Люся и плывет дальше, навстречу беспредельной синеве моря и неба.
А потом они лежат на берегу и греются под южным солнцем.
Длинный пляж тянется вдоль берега как бы трехцветной лентой: у самого моря серая полоска из гальки, в середине — желтый песок, а другой край ленты — зеленый, там раскинулась поросшая травой лужайка. Курортники в основном льстились на песок. Иные сидели под тентом, а другие, преимущественно семейные, укрепляли на четырех колышках простыню и устраивали себе таким образом индивидуальный балаган.
По форме пляж напоминал большого радиуса дугу. Справа эта дуга ограничивалась небольшим береговым выступом, за которым размещался в бухточке порт. А слева врезалась далеко в море длинная скала, поросшая лесом, но с голым каменистым носиком.
— Мама, посмотри, гора, как большой-большой еж, — сказал Николка.
— А она так и называется: Ежик, — сообщила женщина в красном купальнике, расположившаяся рядом с Холодовыми.
— Да что вы! — изумилась Люся. — Костя, слышишь? Эта гора называется Ежик. А Николка сам догадался. Говорит: «Гора, как еж». У него просто феноменальная наблюдательность! Ну, иди к маме!
И, обняв сына, Люся принялась восторженно его целовать.
Потом она легла животом на горячий песок и долго глядела на Ежика. Огромный каменный зверь лежал тихо, опустив к морю серую морду, словно задумался или принюхивался к воде, грея на солнышке свои зеленые деревья-иголки.
Вечером Костя и Люся решили никуда не ходить, а пораньше лечь спать. Они поужинали в кафе, мужественно выстояв полуторачасовую очередь, и в девять часов Николка уже спал на своем сундуке, а Костя и Люся лежали рядом на полутораспальной кровати и тоже старались заснуть.
Старания их были, однако, безуспешны. Древняя сетка кровати провисла в середине почти до самого пола, и Люся с Костей лежали как бы в сидячем положении. К тому же свернутое в жгут одеяло больше напоминало полено, нежели подушку, и Люся попусту уминала его кулаком, пытаясь устроить для головы хоть какую-нибудь ямочку.
Усталость все же брала свое. Костя первым начал умиротворенно посапывать, Люся тоже стала задремывать. Она бы наверняка заснула, если бы вдруг где-то совсем рядом не раздался пронзительный вопль. Костя испуганно дернулся и вскочил с постели, не соображая спросонья, куда бежать, и обалдело затоптался возле кровати.
Люся расхохоталась.
— Ну чего вскочил? — сказала она. — Это хозяйкина девочка плачет. Ее укладывают спать, а она не хочет.
— Так громко? — недоуменно спросил Костя. — Наш Колька…
— Дети плачут по-разному, — рассудительно проговорила Люся. — Ложись.
— Мам-ка ду-а-а! — тянула Машенька голосом и в самом деле чересчур пронзительным для такого маленького существа.
— Я тебе покажу «мамка-дура»! — кричала хозяйка. — Я тебе дам! Вот, вот, вот!
И звонкие шлепки сопровождали материнские увещевания.
— Разве можно так бить ребенка? — переживал Костя. — Я пойду, скажу ей…
— Перестала, — прислушиваясь к экзекуции, сказала Люся. — Ложись же!
Костя лег. Хозяйка в самом деле больше не шлепала дочку, наоборот, награждала свою горластую Машеньку самыми нежными эпитетами:
— Ты моя хорошая, ты моя доченька, ты моя цацанька…
Цацанька, однако, не поддавалась на ласку и продолжала реветь изо всех сил.
— Да замолчишь ли ты, наконец, паразитка? — заорала Ксеня, истощив запас нежности.
— Мамка ду-а-а, — затянула в ответ Машенька.
— Дура? Я — дура? — снова возмутилась хозяйка. — Вот тебе, вот, вот!
И принялась вразумлять Машеньку прежним способом — через ягодицы.
Все это происходило в непосредственной близости от Холодовых, а именно в той же зимней кухне, за ситцевой занавеской, которая заменяла дверь. Машенькин рев не только не шел на убыль, но, напротив, с каждой минутой нарастал по мощности. Вероятно, у ребенка было выдающееся горло. Или же девочка родилась с обыкновенным горлом, но достигла столь замечательной звучности голоса благодаря неустанным тренировкам.
Даже Николка, привыкший с самого рождения крепко спать под шум уличного транспорта и под хор Пятницкого при включенном на полный звук репродукторе, даже Николка не выдержал Машенькиных рулад и проснулся.
— Мама, это кто? — спросил он.
— Спи, — сказала Люся. — Это так, одна девочка плачет.
— Та, кудрявая?
— Ага. Ты спи.
— Я уже наспался, — сказал Николка.
— Ты моя цацанька, ты моя сахарная, — наговаривала Ксеня.
— А-а-а, — тянула Машенька в широком диапазоне от самых низких до немыслимо пронзительных нот.
Этот концерт, сопровождаемый время от времени крепкими шлепками, длился около часа, после чего все успокоилось, и стало так тихо, что у Люси звенело в ушах.
— Ничего, — сказал Костя, — мы ведь не будем так рано ложиться, это сегодня устали с дороги… А вообще будем ложиться, когда она уже уснет. Правда, Люся?
— Конечно. Николка, ты спишь?
— Сплю, — сказал Николка, ворочаясь на своем сундуке.
— Не надо разговаривать, — сказал Костя. — Будем спать.
— Давай, — согласилась Люся, хотя знала, что скоро не заснет: она всегда подолгу бодрствовала если что-нибудь перебивало ей сон.
Чистая деревенская тишина стояла кругом, Люся давным-давно отвыкла от такой тишины, и теперь ей было странно и даже немного жутко от этого абсолютного беззвучия. Через проем окна, в который еще не успели вставить раму, виднелось беззвездное густо-синее южное небо. Развесистая яблоня, под которой стоял врытый в землю обеденный стол, чернела своими ветвями.
Люсе было неудобно лежать, ноги затекли, хотелось повернуться. Но она боялась побеспокоить Костю. «Надо спать, — убеждала себя Люся, — спать, спать, спать… Один слон да один слон — два слона, два слона да один слон — три слона…»
Насчитав двести тридцать семь слонов, Люся ухитрилась заснуть. Она даже видела какой-то сон, но о чем он был, не могла потом вспомнить, ибо проснулась слишком резко от такого топота, какой могли издавать только двести тридцать семь слонов, если бы они вдруг примчались из джунглей в Джубгу.
Но, немного придя в себя, Люся сообразила, что это, видимо, не слоны, так как еще и очень громко хохотали. Топали и хохотали, как поняла Люся по отрывистым репликам, квартиранты, возвратившиеся с танцев. Собравшись в саду вокруг стола, они принялись спорить, чем заняться: пить чай или играть в карты. В конце концов решили сперва напиться чаю, а потом играть в карты.
— Кажется, нет керосина, — сказал мужской голос.
— Есть, — возразил ему женский. — Этот женатый лабух ходил сегодня за керосином.
— Есть же идиоты, которые едут на курорт с женами.
— Как будто здесь нельзя найти напрокат!
— Ха-ха-ха!..
— Слушайте анекдот, чуваки. Петух едет на курорт один, осел — с женой, ишак — со всем семейством…
— Ха-ха-ха!..
— Что это? — испуганно спросил проснувшийся Костя.
— Квартиранты, — объяснила Люся. — Пришли с танцев, сейчас будут в карты играть.
Молодые люди в саду начали свои ночные развлечения с жеребьевки: кому разжигать керогаз. Жребий выпал какому-то Борису, по поводу чего раздались бурные возгласы, хохот, визг и аплодисменты, что в сумме напоминало шабаш ведьм. Столь же экспансивно воспринимала компания в дальнейшем любой анекдот и каждый удачный картежный ход или же промах, а также завершение каждого кона.
У Люси было такое ощущение, точно на голову ей надели железные обручи и теперь стягивают их. Ни с того ни с сего припомнились картины средневековых пыток из исторического романа, прочитанного еще в школьные годы. Она не решалась спросить, как себя чувствует Костя. Он заговорил сам: