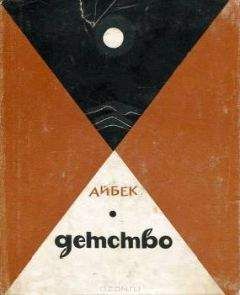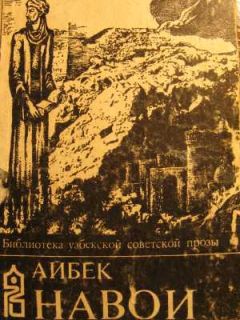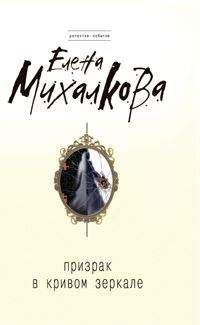Побродив по улице, я захожу в одну из сапожных мастерских нашего квартала. Хозяин мастерской — добродушный, с рыхлым ноздреватым носом, уже довольно старый человек, но живой и общительный. А единственный его подмастерье, смирный и тихий ферганец, не в пример хозяину большой молчун. Мастер иногда начнет рассказывать какую-нибудь побасенку, а подмастерье строчит себе голенище ичига и только хмыкает: «Хм… хм…» Мастер в конце концов выходит из себя, сердится:
— Что ты сидишь, будто воск закусил? Разговаривай! Но и работы не прерывай. Жизнь, она беспокойная, нудная, чтоб не посмеяться, не пошутить — никак нельзя. А ты — сидишь, молчишь, только гляделки свои таращишь. Тридцатый год тебе, а ты — ни «тпру», ни «ну»…
У подмастерья был товарищ, рабочий хлопкового завода, тоже ферганец лет тридцати двух, рослый, плечистый, со смуглым лицом, с острым взглядом и широким открытым лбом. Он иногда заходил в мастерскую проведать земляка. Когда я вошел, он уже горячо говорил мастеру:
— Вот такие дела, мастер. Русские рабочие очень не любят заводчиков и фабрикантов. Они ведь тоже бедные, как и мы все. В мошну фабрикантов, заводчиков, баев, купцов, особенно хлопковиков, деньги валом валят, они хлеще прежнего кутят, распутничают. Вот русские рабочие и говорят: «Белого царя сковырнули с трона, а буржуи, помещики все еще измываются над нами. Теперь черед дошел до буржуев, их тоже надо спровадить в тартарары!»
Мастер долго сидит, хмурит брови.
— Я понял, сынок, — говорит он. — Рабочих, дехкан, всех нуждающихся очень много на свете, им счету нет. А баи, купцы, ростовщики, земли владельцы и все прочие дармоеды на горбу у них сидят. И правда, насилие всякие пределы перешагнуло. Вот, если бы нашелся знающий, разумный, справедливый и мудрый вожак, голова! Чтоб мог отделить скорлупу к скорлупе, а ядро к ядру. Да где он, ведь нет его.
Рабочий достал из кармана пачку дешевых папирос, закурил. Сидит, дымит, задумался. Подмастерье снял с правила ичиг, молча отложил его в сторону и вдруг запищал тоненьким голоском:
— Вот, если бы пророк наш Мухаммад алайхсалам вдруг поднялся, тогда сразу были бы облегчены все наши затруднения!
Рабочий и мастер некоторое время смотрят на него с удивлением. Потом рабочий разражается громким смехом, говорит, обращаясь к подмастерью:
— Чудно! Таким молчуном был ты, Махмуд. — И уже серьезно продолжает: — Какая польза вспоминать пророка? Ты думай о нынешних наших бедах. О голодном, разутом-раздетом народе думай. Баи наши скупые, жадные, а сынки их предаются разгулу. Вот, об этом поразмысли.
Подмастерье опять пропищал:
— Э, все от бога, все в воле божией…
— Я не против аллаха, — говорит рабочий. — Но ты взгляни на жизнь. Богачи и владельцы земли — все низкие, подлые люди. А народ голоден, разут-раздет.
Мастер опрыскивает кусок кожи водой, расправляя его, говорит сердито:
— Пусть подчистую сгинут все купцы и все буржуи! Мудрый, разумный и почитаемый всеми вожак нужен нам. Только ведь нет такого вожака.
— А вот и есть. И из мастеровых есть люди, понимающие дело, и вообще среди русских есть люди знающие, ученые. Все науки идут от русских. И организации есть у них, я знаю.
Мастер удивленно приподнимает бровь. Говорит:
— Учение — дело хорошее. У ученого человека и ум полнее, он все может знать, что только делается на свете. Мы все, к сожалению, сплошь темные. Но ты, Садык, должен сказать, здорово говоришь по-русски. В тот день, помнишь, когда приходил этот мастеровой, я диву дался, как ты запросто щебетал по-ихнему. Ты, Садык, обязательно приставай к ним, к русским рабочим.
Садык, довольный, говорит, покручивая ус:
— По-русски — я мало-мало говорю, а вот грамотой не владею. Побегал немного в школу, да в доме начались затруднения, навалилась нужда. А учителю каждый четверг надо нести сдобных лепешек, пирожков с мясом и прочее. Я и забросил учение. Поскитался по Фергане, потом приехал в Ташкент, на завод поступил. Я и сам думал пристать к русским рабочим, но как-то все не могу решиться. Впрочем, посмотрим, посмотрим. Краем уха слышал я, будто бы рабочие Петрограда собираются скинуть Временное правительство. Рабочие Ташкента тоже по-моему усиленно готовятся к чему-то.
В мастерскую неожиданно входит Расуль-орус. Ему уже под шестьдесят, у него гноятся глаза, но он все еще торгует железным ломом, тряпьем, старьем, недавно женился на хорошенькой девушке, постоянно полупьян и не дает покоя жителям квартала.
Остановившись у порога, Расуль сердито тычет перед собой палкой:
— Так, мастер, о чем это вы болтаете тут с тем вон джигитом? Он что-то трепался насчет мастеровых. — Он вдруг изрыгает непристойное русское ругательство. Потом поворачивается к Садыку, кричит, стукнув палкой об пол: — На хлопковом заводе работаешь? Обязательно донесу на тебя баю! Рабочий должен быть предан хозяину, а не разводить смуту. Так что, смотри у меня, знай, куда ступить, иначе кубарем полетишь и угодишь прямо за решетку!..
Мастер, Садык, Махмуд застыли, ошеломленные. Первым спохватывается мастер.
— Тебе-то какое дело? — разозлившись, говорит он. — Ну, поговорили тут о том, о сем. Насчет богачей позлословили малость.
Расуль прищурил трахомные глаза.
— Расхваливаете мастеровых, снюхались уже, шушукаетесь тут, знаю! — и показывает палкой в сторону мастера. — Это от тебя исходит всякая смута, мастер, напасть на твою голову! Смотри у меня, не покаешься, голову сниму!
— Убирайся отсюда! Иди в мечеть, там тебя каменщики ждут с деньгами. Пусть минарет твой до небес достанет и тебя к самому престолу всевышнего вознесет, старый петух! — выходя из себя, кричит мастер.
Молчун-подмастерье фыркает и громко смеется в глаза Расулю.
— Валяйте, валяйте! Топайте домой и перебирайте четки. Да на молитву в мечеть не опаздывайте, вы дали обет мулле, а то как раз шуганут вас в преисподнюю.
Мастер и Садык негромко смеются.
— Мы пошутили, Расульджан, — говорит мастер уже серьезно. — Сам знаешь, жизнь настала трудная, дороговизна. Людям с достатком все равно, а у нас много забот, горя.
Расуль, обругав мастера, закуривает папиросу. Говорит:
— Остерегись, мастер, иначе быть тебе в аду! — и уходит.
После долгой беседы, близко к часу вечерней молитвы Садык попрощался и ушел на завод. Мастер с подмастерьем отправились домой. А я, встретившись с ребятами, задержался на улице до позднего вечера.
* * *
В среду утром, сговорившись с Тургуном, я подошел к его матери:
— Тетя, отпустите Тургуна, мы сходим на базар. Он ловкий, сразу найдет покупателя. Мы быстро продадим тесьму и сейчас же вернемся.
— Ты всегда так, — недовольно ворчит мать Тургуна — улестишь-обманешь меня и уведешь его невесть куда. Сегодня мне постирать надо, пусть за детьми присмотрит, воду поможет таскать, дров нарубит.
— Да вы оглянуться не успеете, как мы прибежим! — говорю я, подмигивая Тургуну.
И вот, я уже рыскаю по торговым рядам с тесьмой, вытканной матерью. А рядом со мной хитрец и пройдоха Тургун.
Народу на базаре много. Особенно старух, молодых женщин и девушек. И все продают тесьму, тюбетейки, вату, мотки пряжи. Лавочники обманом-уговорами морочат женщинам голову и почти задаром берут их товар. Но я свое дело знаю, а Тургун и вовсе мастак по части продать-всучить.
На Эски-джува есть чем поразвлечься. Вот латальщик обуви, починяя чьи-то ичиги, гундит что-то себе под нос — доволен, наверное, что представилась возможность заработать несколько медных монет. А вон рябой Махсума-журавель, потряхивая своими лохмотьями, веселит народ: надует щеки и выбивает на них барабанную дробь, — тоже старается зашибить копейку. Нищим, ворожеям-гадалыцикам, попрошайкам — счету нет. Вот толпа странствующих дервишей в рубищах, в высоких конусообразных шапках — ходит по базару, выкрикивая: «О аллах, истины друг!» — в руках длинные посохи, а у поясов тыквянки для сбора подаяний.
Тургун любил злить дервишей.
— Лентяи! Дармоеды! Анашисты! — выкрикивает он я убегает со всех ног. А я — за ним.
Расположившись на земле, жужжат своими смычками чинильщики посуды. Мы останавливаемся около одного.
— Бой-бой, как он ловко орудует смычком! — говорю я.
— Да, вот это занятие! — говорит Тургун. — Смотри, раз — и готова пиала. Вот, наверное, загребает человек деньгу. Конечно, я обязательно стану чинильщиком посуды!
Мастер улыбается:
— Говорят: кувшины бьются не в урок, но каждому кувшину дан свой срок. Что ж, добро, становись чинильщиком посуды, малыш!
От чинильщиков посуды мы идем к хозяину «панорамы», важному на вид усатому старику с запрятанными под клочьями густых бровей глазами. Обычно тихий и приветливый, человек этот показывал через окуляры разные снимки — пустыни Аравии, реку Нил, пирамиды, виды Багдада, улицы Стамбула, мечети Айя-Софии и Султана Абдул-хамида. Развлечение стоило копейку, но у нас, к сожалению, нет ни гроша. Оба мы тихонько подсаживаемся к старику.