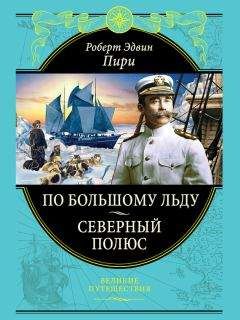Внучек мой, долгожданный, смилуйся над своей единственной родительницей, приезжай поскорей. Видишь, что происходит у нас?! А за тебя-то я как боюсь, вдруг и ты от горести какой к вину пристрастишься! Упаси бог!
Нюра Суземцева об тебе вся испереживалась, да поняла, что ты от деревни совсем отбиваешься. Дай, говорит, бабушка, адрес гулены нашего — я ему такое письмо нацарапаю, живо в деревню прикатит. Я адрес твой отдала, и с плеч моих словно ноша свалилась. Подошла к оконцу в горенке, и почудилось мне, что за окном уже белые мухи кружат и дорога на юг покрылась глубоким снегом. Вгляделась я в снежную заметь, и вдруг тебя, мой мальчик, увидела. Пробираешься ты сквозь снежные заносы и валежины, а на ногах у тебя сапоги точно такие же, как у Петьки Чумакова.
Ох ты, горюшко мое, выскочила я во двор, навстречу, глянула вдаль, а на дороге — ни снега, ни тебя. Одна осенняя сырость да тишь неохватная.
Феденька мой, не могу я больше жить одна, никак не могу, приезжай, голубчик мой! Сегодня выслала в столицу всю пенсию. Как только получишь ее — сразу билет заказывай и приезжай поскорей. Жду твоего приезда, со дня на день жду!
Обнимаю тебя. Бабушка твоя Евдокия.
30 сентября
Здравствуй, бабушка моя единственная!
Здравствуй, родненькая!
Перевод твой получил, письмо тоже. Спасибо тебе за все, только не могу я сейчас к тебе приехать. Потерпи немного.
Бабушка моя милая, со мной творится что-то непонятное. Как только я начал учиться в училище, во мне произошло какое-то жуткое перерождение. Я как будто очутился в другом мире, очень запутанном и совершенно безжалостном. Преподаватели на моем курсе почти все заслуженные педагоги, но, к сожалению, очень высокомерны. Это высокомерие сразу подкосило меня: каждый раз перед занятиями я почти дрожу только при виде своих наставников. А ведь мне перед ними играть надо, душу свою раскрывать, исповедоваться. А как можно довериться человеку, которому моя откровенность неинтересна. Трудно мне, бабушка, ох как трудно! Я чувствую, что не хватает мне и знаний, и образования, и культуры, а помочь некому.
Больше двух недель, начиная с первого сентября, я не мог себе места найти! Я ощущал свое бессилие перед всеми педагогами училища и с каждым днем все больше и больше томился их отчужденностью. Они, конечно, замечали мою подавленность, но никто не подошел ко мне, не попытался вызвать на откровенность. Родненькая моя бабушка, учительница вековечная, знала бы ты, как мне здесь не хватает откровенных людей! Или хотя бы сочувственной незлой улыбки. И сколько бы лишений я ни пережил за три месяца экзаменационных волнений, как бы ни восхищался исповедальной актерской жизнью, но мне вдруг страшно захотелось бросить все на свете и уехать домой, к тебе на болотину, в наше ягодное суземье. Однажды я так и сделал. Собрал свой чемоданчик и поехал на Северный вокзал. И вот где-то позади себя, еще в троллейбусе, я вдруг увидел одну белокурую девушку с нашего первого курса. Сначала я не подал вида, думая, что она случайно едет по одному маршруту со мной. Но, выйдя у трех вокзалов на площади, я вдруг заметил, что она тоже сошла с троллейбуса. Это удивило меня, но я старался не обращать внимания на сокурсницу, потому что мысли были уже далеко, в нашей деревне. Тоскливо было у меня на душе, одиноко. С одной стороны, я понимал, что бросать институт глупо, легкомысленно — слишком много усилий было сделано, чтобы попасть в него, а с другой стороны, я все больше и больше убеждался, что понять, суметь раскрыть себя для других среди высокомерных, бездушных людей невозможно. Значит, учиться только ради диплома. Стоит ли? Я встал в очередь в кассу, и, когда до окошка осталось всего несколько человек, вдруг передо мной опять появилась моя сокурсница. «Здравствуй, Федор, — сказала она, не глядя в глаза. — Мне нужно поговорить с тобой». Я вышел из очереди, а она потянула меня за руку в сторону выхода. «Ты с ума сошел, — говорит. — А ну, давай вещи!»
Я пристально посмотрел ей в глаза.
Бабушка моя ненаглядная! Солнышко мое далекое! Знала бы ты, как ее глаза похожи на твои! Они такие же светлые, лучистые, несказанной доброты! Я внезапно почувствовал, что они греют меня, и вспомнил, что девушку зовут Вероника. Но я ничего не успел сказать ей, потому что она вдруг сама заговорила: «Ты славный малый, я хочу помочь тебе». — «Чем?» — удивился я. «Прежде всего я предлагаю свою дружбу, — с какой-то озаренной улыбкой вдруг проговорила Вероника. — А это означает, что, во-первых, мы должны быть очень откровенны, а во-вторых — ни одной минуты для меланхолии».
Такое предложение я сразу принял, хотя и не очень все понял.
«В-третьих, — решительно заявила она, — сейчас же поедем ко мне». — «Зачем?» — «Ты что, боишься? Я хочу поговорить с тобой. Поедем!»
Настойчивость Вероники несколько насторожила. Я растерялся. Впервые за три месяца пребывания в столице я вдруг почувствовал, что не совсем одинок, и, поразмыслив немного, согласился поехать.
Родительница моя единственная, знала бы ты, как она живет! Книг у нее больше, чем в нашей сельской библиотеке, и не просто по школьной программе, а много замысловатых, даже удивительных книг. И все эти книги Вероника прочла. Словом, умница она, каких я сроду не видел! У нее график имеется, по которому она живет, и много литературы о лекарственных травах для лечения на дому, и даже платные учителя по французскому языку и орфоэпии. (Орфоэпия — это наука о правильном произношении слов.) Но самое удивительное в ее доме — маленькая собачка редкой породы. Она такая крохотная, что помещается в дамской шляпке, в которой Вероника ездит в училище. Собачку так и зовут — Крошка, хотя живот у нее в два раза больше, чем у нашей охотничьей Тайги. Чистота в квартире Вероники отменная. На стенах фотообои — обычные обои, с картинками. Картинки разные, но больше нарисовано яхт и легковых машин такого же цвета, как «Жигули» у Вероники. У нее, бабушка, две машины: одна — отцова, служебная, в ней Вероника в институт ездит, а другая — ее личная. Как только мы пришли к ней домой, Вероника сбросила свой легкий плащ, так я, бабушка, и не знал, куда глаза девать. Это не одежда, срам какой-то! И вела она себя очень смело: вдруг подошла ко мне совсем близко, села рядом в одно кресло и неожиданно поцеловала меня, да так долго, так сильно, что я не знал, куда от стыда деться, а ей — хоть бы что! «Ты, — говорит, — славный малый, и я давно наблюдаю за тобой. Ты мне чем-то дорог, Федя… Давай, — говорит, — в ресторан сходим». — «Зачем?» — удивился я. «Неужто ты звала меня только для ресторана?» А она: «Неужели тебе не хочется выпить и поговорить со мной?»
Что ты на это скажешь, родненькая моя?! Вот как о нас, о деревенских, думают! Молодой, мол, здоровый, значит, наверняка пойдет водку пить! А потом что?! Кое-как отговорил Веронику от ресторана. Сбросила она свое огненное платье, халат домашний надела, тоже на одной пуговице, да с петухами во весь подол, и опять ко мне подсела. «Тундра, — говорит, — ты. Ведь я оплачиваю все и шефство беру над тобой, иначе со своей дикостью тебе только на селе жить и работать там же. Ты знаешь, — говорит, — что педагоги о тебе думают?» — «Откуда мне знать?» — ответил я. «Не обижайся, Федя, но я должна тебя предупредить, — тихо и с какой-то задумчивой грустью неожиданно сказала Вероника. — Они решили, друг мой странный, что ты настоящий дебил (так тут дурачков называют), и постараются как можно скорее вытряхнуть тебя из училища, как профнепригодного. А я знаю, — взволнованно продолжала Вероника, — что ты не дебил и не шизофреник, а очень способный, очень своеобразный человек, только замкнутый чересчур, только слишком впечатлительный, слишком чуткий ко всем людям. Тебе не нравится, что у нас много блатных студентов. Так ты не думай об этом! Пусть они учатся на здоровье, а ты знай свое дело и помалкивай. Ты бесишься оттого, что старики педагоги ухаживают за молодыми девушками! Так пусть же и это тебя не волнует. Ты думаешь, я не понимаю тебя? — нервно заговорила она и осторожно взяла меня за руку. — Напрасно так думаешь! Ты не смотри, что мне двадцать два года, это на вид двадцать два. Узнаешь меня ближе — сорок дашь». — «Почему?» — удивился я. «А потому, что ты всего один раз поступал в институт, а я — четыре. Только четыре поступления у меня в четыре жутких года вылились. Когда я пришла в театральную студию первый раз, то мне еще на консультации сказали, что у меня нет сценических данных… Целый год я готовилась к следующему поступлению. Думаешь, мне легко было? Думаешь, легко поступить в театральную студию без блата и удержаться в ней? Легко? Нет! Я тебе все расскажу… Ты обязательно должен знать всю историю…»
А началась история Вероники четыре года назад. Конкурс в театральные вузы был в ту пору огромным, впрочем, как и сейчас… Но Вероника была готова к любым испытаниям. Тем более что видела все мхатовские спектакли и даже выучила некоторые монологи наизусть. Особенно ей удавался монолог Нины из пьесы Чехова «Чайка». Она читала его повсюду, и дома, своим родителям, и на работе, специально устроившись реквизитором при народном театре завода «Серп и молот», а частенько просто в метро или в автобусе.