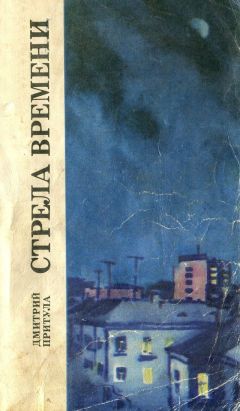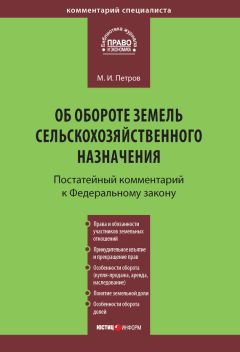То были сухие рыдания, которые не облегчают душу. Знал: он не смог вынести тишины, любви и счастья послевоенного мира, потому что назначение его души — терять и быть битой, а вовсе не приобретать и быть счастливой. Сейчас ему было стыдно — не перед Катей — она свой, близкий человек, — но перед самим собой: никогда нельзя распускать душу, всегда следует держать ее в жесткой упряжке, а распустил, и на счастье потянула — ох-хо! — как дальше жить с отбитой, сиротской душой.
— Да что с тобой, Васенька? — испуганно спрашивала его Катя, склоняясь над ним.
— Да видишь, какое дело получилось.
— Ты только повернись ко мне, тебе и легче будет. Лицо только подними.
Но он не мог оторвать лица от рукава шинели, жесткой материей тер глаза, чтоб им стало больно, и тогда Катя с силой потянула его за плечи, оторвала его лицо от шинели, и лицо залило ее дыхание, целовала его в лоб, в щеки, в глаза, да Вася же, Василек, да успокойся, я здесь, и не оставлю тебя в беде, вот если в радости ты будешь и нужна тебе не стану — дело другое, в беде же — никогда.
Покойная матушка вот так утешала его в детстве: мальчик мой, сыночек, да ведь он ножку занозил, ну беда, а дай подую, легче станет, у кошки боли, у собачки боли — у Васятки заживи, вот оно что-то уже и легче.
— Все, Катя, все, — сказал Лукин. — Ты меня не осуждай. Думаю, не со мной одним в это лето такие вензеля выписываются. — Он рывком сел, обхватил руками колени и, чуть раскачиваясь, говорил горько:
— Да что ж такое с нами сталось. Да что ж за земля у нас теперь такая будет. Ведь каждый, кто уцелел, или сам убивал, или его убить хотели. Каждый уцелел лишь чудом, и то только потому, что должен ведь хоть кто-то уцелеть после любой войны. Вот тоже и я. Два года назад шел по полянке паренек, он малинку собирал. Пилоточка у него в руке. Он наклонялся, находил ягодку и отправлял ее в рот. А нам как раз по этой самой полянке связь нужно было тянуть. И я так это, не очень и прицеливаясь, стрельнул. Паренек постоял, к лесу для чего-то поприслушивался, еще раз наклонился за ягодкой да и клюнул землю.
— Но ведь если б не ты его, так он тебя. Так я войну понимаю.
— Это все верно. Вот только я думаю иной раз, разве же я для того родился, чтоб тянуть провод в глубоком снегу да салют давать прощальный? А ведь я, ты заметь, еще не вполне старый мужчина. Я же в восемнадцать лет ушел. Вот я о чем. И что же я такого интересного успел повидать? Я же пожить еще не успел, а душу свою уже загубил, вот дело какое. Как же я буду жить без друзей? А их нет. Ведь мне до вчерашнего дня одно только и нужно было: играть бы только на своей гармонике. Вот теперь тебя встретил. Так вот играть бы мне на гармонике да с тобой вовек не разлучаться. Но это уже все, ты понимаешь.
— Но ведь не все и сразу. Потерпеть ведь тоже надо? Думаешь, здесь легче было? Ты же видел вчера женщин и стариков. Им тоже несладко без мужей и сыновей. А я? Мне ведь тоже не так много лет — девятнадцать, а я за четыре года ни разу на танцы не сходила. Нам всем казалось — жизнь пройдет, мы состаримся не повеселившись. Да это при недоеданиях и дежурствах без всякого счета. А разве думала я вчера, что буду сидеть с тобой у костра? Но ведь вот сижу.
— Ах ты, Катя-Катюша, вот и все, я отошел. Права ты, что говорить, раз уж, дело такое перетерпели, так теперь уж что! Только вот ты от меня не отделяйся.
— Да куда ж я от тебя отделюсь?
Он обнял ее, и так, обнявшись неразрывно, согревая друг друга дыханием, заснули они до раннего утра.
Проснулся Лукин от того, что его ослепило солнце. Звезды погасли, и дотаивали последние остатки луны. Деревья, трава и каждый листок были промыты утренней росой, все влажно и чисто блестело, дым от костра растаял не вполне, и столбы его ярко светились между стволами деревьев.
Чтоб не разбудить Катю, Лукин осторожно сел. По листу папоротника ползла божья коровка, и Лукин посадил ее на ладонь, терпеливо ожидая, когда ж она улетит на небо. Но она улетать не спешила, и тогда Лукин подул на нее, и раз и другой вздрогнули чуткие крылья, и, присев на ножки, божья коровка плавно оттолкнула бугристую поверхность ладони, чуть зависла в воздухе и полетела по своим делам. Так лети, лети свободно!
Катя спала, и Василий Лукин провел травинкой по ее щеке, тогда Катя засмеялась, и слышны были слабые колокольчики ее смеха, Лукин поцеловал ее, и Катя, все не просыпаясь, обняла его, чтоб надольше задержать сон.
— Расставаться нам вроде не следует, — сказал Василий Лукин.
— Да, вроде не следует, — согласилась Катя.
— Так надо как-нибудь сговориться.
— Давай встретимся через три дня у дяди Пети на пристани.
— Значит, через три дня.
Они шли по дороге, перед ними стоял холм, а за холмом, знал Лукин, дорога раздваивается, и вот им, Лукину и Кате, предстоит расстаться.
А вот расставаться как раз не надо бы, потому что случись Кате потеряться или если не удастся двум песчинкам вновь столкнуться в безоглядных пространствах, то пережить такую потерю Лукину будет вот как тяжело — не может одному человеку так повезти, чтобы он дважды встретил такую вот Катерину.
И тогда жалобно, как перед потерей, Лукин взглянул на Катю, и в тот же миг она взглянула на него, в ее глазах также было нежелание потеряться, и Лукин одной рукой обнял ее за плечи, в другую руку взял ее теплые ладони, и они шли, вернее сказать, плыли, не отводя друг от друга глаз.
Их зрение было слепо к окружающему миру, Лукин видел лишь ее истомленный и влажный взгляд, и чуть вздрагивающие ноздри, и приоткрытый для долгого поцелуя рот.
Как-то удалось им поймать согласный ход и плыть не спотыкаясь. Все не отводя глаз, свернули они с дороги и пошли по плавному взлету холма. Сознание их померкло, в нем оставалось лишь желание продлить любовью время перед разлукой.
По дороге мог идти или ехать случайный человек, и он мог увидеть их с дороги, но сейчас все померкло, оставалась лишь одна страсть не разлучаться.
Да, не разлучаться, так обними же крепче, душа ненаглядная, и еще крепче, чтоб никто нас разорвать уже не смог, теперь вместе, хоть на жизнь, хоть и на смерть, и лицо твое всегда будет перед моими глазами, как эта белая ромашка. Нам непременно повезет и выпадет долгое плаванье, нет, нет такой силы, которая разлучила бы теперь людей против их воли, и нет ничего страшнее разлуки после плаванья такого.
…В деревню Панино Лукин вошел в девять часов утра. До дома оставалось пять километров. В Панине взрослых видно не было — все на работе. На улице возились мальчишки. Увидев Лукина, они бросились к нему.
— А вы чей, дядя? — спросил самый смелый из них, белобрысый мальчик лет восьми, в длинных, ниже колен трусах.
— А кто из вас Степа Лукин?
— Так это ж я, — ответил бойкий мальчуган.
— А отец твой где, Степа?
— Где ему быть? Так ведь на работе.
— А ты бы его кликнул. Скажи, что племянник его прибыл с фронта, брат твой двоюродный, выходит.
Степа победно посмотрел на мальчишек и тут же испарился.
А Лукин пошел к дому дяди и сел на крыльцо.
Вскоре пришел дядя Федя.
— Здорово, племяш, — радостно загудел он.
— Здоров, дядяня.
Дядя Федя постарел за войну, пустой рукав его рубашки был заправлен под поясок.
Дядя Федя обнял племянника здоровой рукой, а тот приподнял, обнимая, своего дядьку, вовсе уж близкого человека.
— И где же это тебя? — спросил Лукин.
— Да под Варшавой. За год помаленьку привыкаю.
Они прошли в дом.
— Постарели мы за войну, а, Василек? Ты вон тоже матерый мужчина стал. Да и я успел намаяться. Хорошо, хоть голова и ноги целы, а с рукой можно к жизни приспособиться, — говорил дядя Федя, ставя на стол двухлитровую бутыль с зеленоватой влагой, холодную вареную картошку и соль. — Работу взял прежнюю — бригадирствую в полеводстве, тоже надо хозяйство поднимать. Поголодали без нас бабы, жизнь как-либо порезвее налаживать надо. Мы вот сейчас отметим твое возвращение, а в обед Настя прибежит и покормит нас.
— Да у меня времени-то нет ждать. Уж лучше вы вечером к нам приходите, или же мы к вам притопаем.
Дядя Федя удивленно посмотрел на него, а Лукин насторожился — не случилось ли чего дома.
— Как отец? Здоров ли?
— Да вот весной заболел, да, — начал дядя Федя и осекся. — Ну уж я тебе скажу, плотник он, другого нет такого, пятнадцать лет назад вот этот дом отгрохал, и ведь красавец дом. Ты как считаешь?
— Да ты, дядяня, что-то крутишь, — встревожился Лукин. — И это, надо сказать, на тебя непохоже.
— Так ведь то и дело, Вася, что как заболел, так и не поправился, — тяжело выдохнул дядя.
— Как это — не поправился?
— Да так, Вася. Как все люди. Месяц назад, словом говоря, положили его рядом с твоей матушкой. Такую уж новость я тебе преподношу. А он, как ты знаешь, брат мой старший и любимый.